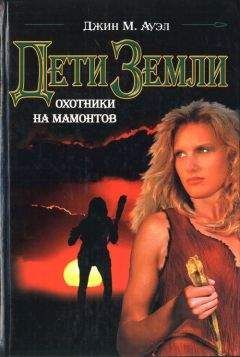миру. Я был важен и не был важен; я был частью огромной тайны, и мама посвятила меня в нее в момент моего рождения.
– Ой, смотри! – сказала мама.
Одной рукой она хлопнула по столу, а другой указала в сторону.
В ресторане приглушили свет, и мы увидели, как кряквы неспешно ковыляют через вестибюль к лифтам и дальше – на крышу, оставляя за собой лужицы хлорированной воды. В тишине их кряканье эхом прокатилось по мраморному залу ресторана к нашей кабинке.
– Утки здесь были, еще когда я была ребенком, – сказала мама, и голос ее потеплел от воспоминаний.
Эти утки были родственниками диких уток, живших где-то в лесах Арканзаса. Но в какой-то момент их приручили, и со временем эти утки забыли, что такое вода без хлорки.
Автопортрет
«Словно кто-то в семье умирает, – пишет Барбара Джонсон в книге „Может ли мать уйти в отставку?“. – Но когда человек умирает, ты хоронишь его и живешь дальше. А с гомосексуальностью боль не проходит никогда».
После Дня благодарения мы с мамой начали читать Джонсон и «Портрет Дориана Грея», но ни одну из книг так и не дочитали. Наступил март, до вступления в ЛД оставалось два месяца, и казалось, что мы ничего не сможем довести до конца, пока не будем уверены, что конверсионная терапия действительно меня вылечит. Мы точно поставили свои жизни на паузу, отложив все недоделанные дела до лета.
Книгу Джонсон, которую называли целительной, много читали в кругу экс-геев, особенно в семьях христиан-фундаменталистов, только что обнаруживших, что их ребенок квир. Джонсон героически бросила вызов сыновьему недугу и не отступала, пока сын не признал, что гомосексуальность – грех. Ни одна мать не должна страдать так, как страдала она, говорилось в книге. Ни одна мать не должна испытывать такую боль.
– Я прочла совсем немного, – призналась мама по телефону.
Я подошел к дивану в углу пустой гостиной общежития и сел, уставившись на облупившуюся белую стену. На этот раз я говорил по стационарному телефону, зажав желтый аппарат между колен. Домашнюю работу я, как обычно, игнорировал. Зачем учиться, если я даже не представляю, что ждет меня в будущем? Возможно, я никогда не найду работу, если не смогу измениться. За мое образование родители платить не будут, а геев, насколько я знаю, на работу никто не нанимает.
– Да, – ответил я, – я тоже.
Повисла пауза. В трубке словно пронесся ветер, наполненный помехами. Я часто представлял виртуальное пространство между нами как огромную пустыню, на блестящем песке которой одинокий черный провод скручивается в бесконечность. К таким мысленным фокусам я прибегал, когда хотел избавиться от страха. Иногда по ночам, пытаясь успокоить непрестанно работающее сознание, я представлял, как лежу на матрасе и, защищенный от удара, стремительно падаю в бездонную лифтовую шахту.
– Надо ответить еще на пару вопросов, – произнесла наконец мама.
Поскольку дополнительные эссе я должен был отправить через интернет, мама решила заполнить заявку в ЛД за меня, а не пересылать ее почтой. В последние месяцы я бывал дома редко, объясняя это кучей домашки, хотя истинной причиной было то, что из-за моего скорого отъезда в ЛД наше общение с родителями стало пустым и неловким. Мы решили, что быстрее будет, если мама поможет мне заполнить анкету. Ей прислали несколько дополнительных вопросов по почте; значит, мы дошли до последнего этапа. Процесс казался бесконечным; теперь от нас требовалось выслать мое недавнее фото и оплатить восемьдесят долларов взноса.
Я зажал желтую трубку плечом. Мама шумно вздохнула.
– Тут спрашивается, вступал ли ты когда-нибудь в телесный контакт с другими людьми?
– Нет, – сказал я быстро.
Был, конечно, Брэд, спортсмен, с которым мы дурачились в средней школе, но я не собирался произносить слова «совместная мастурбация» при матери, а психотерапевт, к которому я ходил на осенних и зимних каникулах, почти не делал заметок во время сессий, из чего я сделал вывод, что о Брэде в ЛД, скорее всего, даже не узнают. Я вспомнил Хлою. Мы только целовались, но поцелуи и те были какими-то неловкими и быстрыми и ни к чему не приводили. Помню приторный вкус ее рта (она всегда держала под языком леденец «Даблминт»), помню дрожь ужаса каждый раз, когда мой язык касался ее брекетов. Почему же то, как я обошелся с этой милой девушкой, не считается грехом?
Хорошо, что мама не спросила, хотел ли я когда-нибудь вступить в телесный контакт с другими людьми. Недавно я попал на выставку одного старшекурсника по имени Калеб, высокого тихого парня в запачканных краской джинсах, которые так великолепно сидели на его заднице, что я не мог отвести от нее взгляда. С бокалом запретного шампанского в руках я наблюдал, как он кружит по галерее, и воображал, чем бы хотел с ним заняться. Подойдя к одной из картин, я представил, как в его ловких пальцах двигается кисть, как он кладет краску мастихином и вытирает его о рваные джинсы, а потом бросает эти джинсы в кучу одежды рядом с кроватью и залезает под испачканные краской простыни. Когда он подошел ко мне, я сказал что-то глупое о сочных тонах.
– Спасибо, – ответил Калеб и улыбнулся. – Хочешь еще шампанского?
– Нет, спасибо.
Мы стояли перед картиной под названием «Эдипов Иисус». На этом полотне