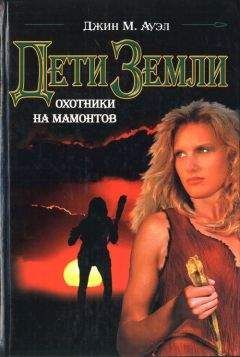моей спине побежали мурашки. Именно об этом меня предупреждали в воскресной школе. Калеб положил трубку на стол, и вдруг все показалось мне намного меньше, чем я себе представлял: вот она, маленькая трубка, робко лежит на куче смятых бумаг, отложенная до момента большого греха, который я, поддавшись искушению, мог совершить в этой комнате. Калеб похлопал по матрасу, и я сел рядом с ним, напоминая себе, что в глазах Господа все грехи равны.
– Тебе совсем затрахали мозги, да? – спросил Калеб.
Он видел, что меня трясет. Казалось, моя кожа сейчас лопнет. «Вот оно», – подумал я. Оболочка, которую я так хотел сбросить, вибрирует в предвкушении. Одно быстрое движение Калеба, и внешнее спадет, а под ним обнажится тот, кто долгие годы дремал в обличии примерного мальчика. Ничто не могло подготовить меня к этому мгновению. Ни Хлоя, ни Дэвид, ни прочитанные мною книги.
– Тебе сказали, что это плохо? – спросил Калеб, наклоняясь ко мне.
Я не мог ему ответить. Как мог я объяснить, насколько греховным считают подобное мои верующие друзья и семья? Его глаза были совсем близко – мерцающая синева. Комната общежития сузилась до пространства между нами, и я смотрел на Калеба одновременно сквозь узкий туннель и вне его, наблюдал, как мы сближаемся. Бог тоже смотрел на нас, но впервые в жизни мне было все равно.
В ту ночь мы с Калебом только целовались. Мы не пошли дальше поверхности наших губ, а просто лежали в темноте, переплетя пальцы, и слушали Pagan Poetry Бьорк снова и снова. Сквозь металлические жалюзи просачивался утренний свет, играя на наших щеках и губах, и вскоре дорогу себе пробил оранжевый восход, который заскользил по соседней стене, рисуя ступени, ведущие неважно куда – мы уже забрались так высоко, как хотели. К утру я знал каждый дюйм его комнаты, каждый листочек бумаги, каждый завалявшийся кусок угля, каждый волнистый мазок на холсте с Господом. Комната словно раскрылась передо мной, показала свою истинную сущность – произведения искусства.
– Надо же, а я и внимания на них не обращал, – произнес Калеб после того, как я с закрытыми глазами перечислил все предметы в комнате. – Ты должен стать поэтом.
– Поэтом не хочу, – сказал я.
Я хотел писать рассказы – хотел сочинять истории, которые, появившись на свет, жили бы своей жизнью. Но в колледже в этом семестре проходил только один творческий семинар – семинар поэзии, и мне пришлось записаться на него. Задания, которые профессор давал каждую неделю, оказались для меня слишком трудны: я часами пялился в пустой экран компьютера, и только порыв отчаяния мог извлечь из меня необходимые тринадцать строк.
– Нет, правда, – возразил Калеб.
Он повернулся на бок, лицом ко мне. В какой-то момент, ночью, он сбросил забрызганные краской джинсы, и теперь белая простыня сползла с его бедра, обнажив гладкий участок кожи, V-образный участок таза, ведущий в темноту, не тронутую утренним солнцем. Если я не отвернусь, то опоздаю на семинар.
– У тебя поэтический склад мышления, – сказал Калеб.
Я чувствовал, как его слова проникают в меня и цепляются за крючки в моей голове. Под их тяжестью внутри черепа что-то пульсировало. Cо мной никто никогда не говорил так искренне и ласково. Мы изобретали собственный язык, и он был лучше языка, который я использовал, сочиняя истории. В тот момент я вспомнил отчаяние, которое столько раз испытывал в своей комнате, когда слова оказывались бессильны и не передавали суть моих мыслей. Переживал ли Калеб нечто подобное, смешивая краски и выписывая ночь за ночью портрет Бога? Художник следует за идеалом, который не может существовать вне этого мгновения, и когда он терпит неудачу – а это неизбежно происходит, – он переходит к следующему полотну, к следующему этапу.
– У меня плохо получается писать, – сказал я, отбросив простыню. Мне в самом деле надо было идти на занятие, а я все еще был в пижаме. – Я все время расстраиваюсь, потому что мне не удается передать словами то, что хочется.
– Главное, продолжай, – сказал Калеб, вставая. – Бейся до последнего. Никогда не соглашайся на поражение.
Он прошел в дальний угол, поднял со стола стеклянную трубку с мраморным узором и кончиками пальцев принялся собирать то, что из нее высыпалось. Оранжевый свет, проникавший сквозь жалюзи, сиял на его бедрах, воспламенял золото его волос. Он поднял левую пятку, и его икра сжалась острым клином. Разве возможно передать даже часть того, что я чувствовал в тот миг? Мне никогда не стать поэтом.
Я смотрел, как он собирает что-то со стола, судя по всему, рассыпавшуюся марихуану. Я не понимал, как действуют наркотики, – они меня пугали. Я отвернулся. Один вопрос не давал мне покоя. Я скрестил ноги и наклонился вперед, опершись локтями на бедра.
– А тебе не кажется, что это лицемерно, – сказал я, – писать Бога и одновременно соблазнять первокурсников?
– В смысле?
Деревянным наконечником кисти Калеб утрамбовал содержимое трубки.
Повисло долгое молчание. Я пытался подобрать слова и объяснить, что имею в виду. Разве Калеб делает не то же самое, что мой отец, – стремится к Господу, которого, по сути, не знает? Относятся они к нему, конечно, по-разному. Калеб ничем не жертвует ради Бога, только вдохновляется им. Казалось несправедливым, что кто-то со столь противоположными мне взглядами на мир даже упоминает знакомого мне гневного Господа. А как же все те жертвы, которые мы с отцом принесли, чтобы очиститься в глазах Бога? А бесчисленные ночи, которые я провел, скорчившись в постели с острыми ножницами в кулаке и пытаясь сторговаться с