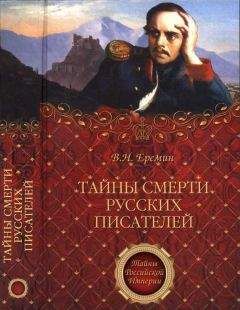Виктор Еремин
Тайны смерти русских писателей
Посвящается Татьяне Ивановне Тотровой (Колгановой)
— Ой, что это со мной? — удивленно произнес Джо Дассен, присел на стул и умер.
Из документального фильма «Джо Дассен»
Взыскательный читатель наверняка возмутится: автор вроде бы намерен рассказать о трагических событиях в судьбах людей, чьи имена вошли в памятку Великой Русской Литературы, почему же книгу открывают слова французского шансонье, да еще американского происхождения? Отвечаю: сам Джо Дассен здесь вообще ни при чем, но предсмертные слова его, на мой взгляд, столь четко, столь кратко и емко отразили то, что, видимо, происходит с каждым человеком в последнее мгновение пребывания его в этом мире, что я не удержался и взял их эпиграфом ко всей книге. Тем паче что о смерти в привычном понимании здесь более разговора не будет.
Кто рассчитывает потравить себе душу печальными историями или посмаковать описание агонии тех, кого мы знаем (а многие с детства любят) всю жизнь, тот ошибается и пусть лучше отложит эту книгу. Именно о жизни пойдет речь: не о приукрашенной, не о возвышенной, но о приземленной и обыденной, в которой талант есть нечто стороннее, то, что проявится и будет оценено потом, когда рубеж повседневности перейден и земной человек вступит в вечность или скоротечность памяти. Ведь на самом деле героев этой книги погубила повседневность, не презренная и презираемая, но данная каждому из нас как неизбежность. Смерть же я рассматриваю здесь исключительно как непременную часть жизни, жизни с продолжением.
Те, о ком тут рассказано, вошли в вечность и интересны нам прежде всего именно этим. Переход их в мир иной был если не ужасный, то трагический, у большинства — преждевременный. Но не стоит постфактум осуждать виновников их гибели — я попытался показать и доказать, что каждый из них был не сам по себе, но стал лишь проявлением Предопределения, которое не зависит от человека. У погибших просто не было и не должно было быть продолжения, и бессмысленные стенания относительно того, кто что мог бы еще создать, что планировал и на что надеялся, являются лишь выражением интеллигентского самолюбования в ослепительных лучах чужого гения.
Не стану скрывать, я предполагал рассказать о гораздо большем числе писателей. Этого не позволили сроки и формат книги. За ее пределами остались A.C. Грибоедов, A.A. Бестужев-Марлинский, Н. В. Гоголь, Д. И. Писарев, A.A. Фет, М. А. Лохвицкая. Я вынужден принести извинения читателям, но отказаться от детального рассказа о каждом персонаже означало бы просто выдать очередную халтуру, которою и без того нынче завалены полки книжных магазинов. Я могу только просить снисхождения и буду благодарен, если мой труд прочтут со вниманием и заинтересованностью.
В заключение хочу поблагодарить за искреннюю и плодотворную помощь в работе над этой книгой: Михаила Будича, Татьяну Данилову, Лилию Ильченко, Валентину Ластовкину, Виорэля Ломова, Ольгу Репиду, Диану Удовиченко, Тамару Ускову и всех, кто проявил заинтересованность к данной работе.
Глава 1
Михаил Сушков, или История недоросля, возомнившего себя Вольтером (1775–1792)
Что в свете жизнь? Она претяжкое есть бремя.
Что сей прекрасный свет? Училище терпеть.
Что каждый миг есть? Зло и будущих зол семя.
Зачем родимся мы? Поплакав, умереть.
Не оскорблю тебя сей мыслию, владыко!
Незлобив ты, и я отца в тебе найду;
А хоть навек умру, то бедство невелико,
К тебе или к земле с отвагою иду.
М. В. Сушков
1
Странная, очень странная посмертная судьба у Михаила Васильевича Сушкова. При жизни она и раскрыться-то не успела: слишком рано прервали ее ретивые руки бессмысленного самоубийцы. И сделано это было во всех отношениях столь грязно и постыдно, что ни один человек во всей России не пожалел глупого юнца. Даже родные, самые близкие не нашли сил, а вернее будет сказать, смелости, открыто выразить свое горе. Вру, один такой нашелся — добрейшей души князь Григорий Александрович Хованский (1767–1796), поэт слабенький, но человек в обществе весьма уважаемый. Правда, выступил он, похоже, не столько сожалея о несчастном, сколько ради красного словца в модном тогда духе и опубликовал сладенькую эпитафию:
M.B.C.
Он в нежной юности жизнь краткую скончал;
Любил на свете всех и сам был всем любезен,
Не быв отечеству, несчастным был полезен;
Чтил добродетель — пороки презирал.
Эти слова могут быть отнесены к кому угодно, только не к Михаилу Васильевичу Сушкову. Сразу после самоубийства были обнаружены его предсмертные письма. С них сделали копии и пустили по рукам как пример того, до какого ничтожества может довести юношу дурное воспитание и вольтерьянство — отказ от Бога. Позор этот лег на родителей и близких родственников Сушкова, в первую очередь на мать самоубийцы. По воспоминаниям младшего брата Василия, несчастная женщина сильно страдала по причине гибели сына, но всю жизнь старалась не поминать его имени ни под каким видом[1].
Однако нашлись издатели того, что успел сочинить юноша. Кто это сделал, точно неизвестно. Вполне вероятно, что здесь постарались разумные сородичи. XVIII век весьма потворствовал такого типа «авторам», благо что в графоманских писаниях погибшего все-таки проглядывали малые искорки пусть не развитого, но все же таланта. У многих сочинителей того времени и подобного не было. Впрочем, Сушков еще при жизни начал публиковаться и даже объявил подписку на собственную книгу в четырех частях — «Полная баснословная история со включением истолкования оной. Собрал из разных французских писателей Михайло Сушков». Известно, что подписчиками на это издание были, в частности, великий Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) и его друг и ученик поэт Иван Иванович Дмитриев (1760–1836).
Но не это главное. После гибели молодого человека в рукописях его была найдена небольшая, сочиненная, по заверениям самого автора, в течение трех дней повесть «Российский Вертер»[2]. Опубликована она была в 1801 г. и обессмертила имя Михаила Сушкова.
Сама по себе повестушка эта ничего особенного не представляет, но надо помнить, что значат имя Иоганна Вольфганга Гете (1746–1832) и его роман «Страдания молодого Вертера» (первое издание в 1774 г.) для всей мировой цивилизации и для Европы в особенности! И если в начале XIX в. неизвестный издатель попытался представить повесть Сушкова как оправдание самоубийства автора великой любовью к некоей девице (никто этому не поверил), то уже во второй половине XIX в. историки литературы определили «Российского Вертера» как пример, а иногда даже как эталон русского сентиментализма, благо повесть была написана немногим ранее «Бедной Лизы» Карамзина. Имя Михаила Сушкова вошло в энциклопедические издания, упоминание о его творчестве при описании русской литературы XVIII столетия стало, по крайней мере, престижным.