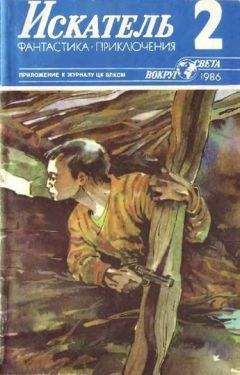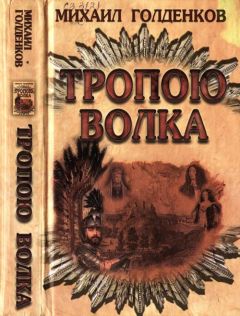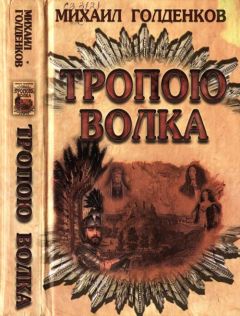Пшеничников Виктор
Тропою джейрана
Виктор ПШЕНИЧНИКОВ
ТРОПОЮ ДЖЕЙРАНА
Повесть
1
"...И три дня будешь идти, и три ночи, а все равно не пройдешь. Сорок несчастий, сорок бед встанут у тебя на пути, и ты покоришься, глупый человек. Тебя сомнут горы, засыплют камни, опрокинут в бездонную пропасть, и тело твое разорвет на части злобный зверь. А уцелеешь, не отступишься, все равно не минует тебя кара аллаха. Сгубит тебя, безумец, пустыня, убьет неутолимая жажда, и тогда выклюют твои очи грифы..."
Хаятолла открыл глаза. Вещий голос пропал.
Косая тень от бархана медленно разрасталась, подбираясь к босым ногам Хаятоллы, сплошь иссеченным порезами, сбитым в кровь о камни.
Близкая тень сулила прохладу и облегчение. Однако мальчик, донельзя изнуренный зноем, не двигался, не искал в ней спасения. Неистовое солнце вытянуло из него все соки, иссушило тело и умерило волю.
"...Ты дерзнул, слабый человек, ты не внял голосу разума. Так терпи, несчастный, терпи и страдай. Страдай и терпи..."
Хаятолла терпеливо ждал, пока наползающая закатная тень протянется еще дальше, загустеет и превратится из сумеречно-серой в фиолетовую, ночную. Только тогда, с приходом темноты, немного отдохнув, он сможет, не рискуя встретить кого-нибудь по дороге, войти в свой разоренный, покинутый людьми кишлак в поисках воды и ночлега.
Вяло прислушиваясь к долетавшим до него редким звукам пустыни, Хаятолла молча заклинал ночь, чтобы она наступила скорей...
Дважды за барханами, далеко, почти неразличимо, всплескивали торопливые автоматные очереди. Эхо выстрелов вязло в жарком стоячем воздухе, глохло и исчезало, ничем не удерживаясь в сознании... Хаятолла даже не попытался встать и посмотреть из своего укрытия, что там происходит: долгий дневной переход лишил его сил, отнял желание шевелиться.
Запрокинув лицо к небу, равнодушный к себе и окружающему, Хаятолла в полудреме лежал на песке между тощих, просвечивающих насквозь, каким-то чудом еще живых кустиков верблюжьей колючки и едва различал, где был бред, мираж, а где явь. И только два слова, два накрепко запомнившихся, как клятва, слова - "Шибирган" и "Олим" - не могли вытравить из его памяти и сознания ни страх погони, ни усталость, ни боль. Он должен был хоть ползком, хоть в бреду, хоть полуживым прийти в Шибирган и непременно должен был разыскать там Олима...
Чалму он давно потерял, даже не помнил где, голову напекло, и в ней сквозь непрерывное гудение и ломоту, сквозь тяжесть нехотя рождались смутные желания и обрывочные мысли, неизменно сводящиеся к воде.
Хаятоллу мучила жажда. Весь день, таясь от людей, он брел по руслу арыка, надеясь отыскать хоть какую-нибудь лужу, но тщетно: душманы в горах перекрыли поток, отвели воду, и ложе арыка всюду оставалось сухим, знойным, белело галькой сквозь толстые наносы глины. Глина там растрескалась и превратилась в такыр, похожий на множество черепков разбитой и разбросанной как попало посуды.
Хаятолла старался отогнать от себя напоминание о воде, но оно упорно каждый раз возвращалось, лаская слух неумолкающим обманным журчанием и плеском. Благодатный поток лился совсем рядом, до него можно было дотянуться губами, и Хаятолла изо всех сил спешил сделать это, но поток ускользал, истончался, уходил без остатка в песок и вновь объявлялся в другом месте, дразня и мучая Хаятоллу своей недосягаемой близостью. Мальчик пытался вызвать слюну, чтобы смочить горло, но язык, взбухнув и почти не умещаясь во рту, ворочался с трудом...
От бесполезной этой борьбы Хаятолла совсем изнемог, забылся. Едко пахнуло горьковатым запахом верблюжьей колючки, царапавшей щеку одеревенелым шипом, и мальчик вновь закрыл сожженные солнцем глаза, давая им отдых.
Чей-то пристальный взгляд заставил его встрепенуться. В безликом небе низко кружил в ожидании добычи стервятник, а на самом гребне бархана, в двух или трех шагах застыл пучеглазый варан, пялился на неподвижно лежащего человека и нервно подергивал закрученным хвостом, готовый при малейшей опасности удрать.
Мальчик слабо взмахнул рукой, пошевелился, и варан пропал, будто его и не было вовсе. Только струйка песка просеялась сверху, оставляя на склоне бархана тонкую борозду.
"Видишь, как ты слаб и беспомощен? Разве тебе было плохо дома?.."
Хаятолла поднял ладонь к лицу, как бы загораживаясь ею от скрипучего вещего голоса, падающего с небес... Все смешалось, странно перепуталось в его памяти; мрачно парящие стервятники и автоматные очереди, недосягаемый уездный городок Шибирган на севере страны и безводный арык в черепице такыра, боль и солнце, москиты, грузовики, бредущая неведомо куда вереница верблюдов, черные шерстяные шатры кочевников-кушанов, веточки арчи с нежными зелеными листьями, глупый безобразный варан и снова стрельба - с раскатом, из танковых пушек, улыбающийся Олим с нацепленной на ремень добротной кобурой и торчащей оттуда рифленой рукояткой пистолета... Тонко, как струйка песка, просачивались сквозь эту кутерьму и неразбериху звуки и запахи дома, манили к себе, и Хаятолла доверился им, дал увлечь себя в то утраченное навсегда, безвозвратное время, когда его жизнь принадлежала только отцу и матери, да еще земле, на которой он когда-то играл.
Он снова был дома, прохладу струили старые его стены... Он снова слышал в пустынном безмолвии голоса родного кишлака, с удивлением и почти забытой радостью внимал их гортанным и резким звукам...
- Хаятолла, ты где? Куда ты запропастился?
Мальчик вздрогнул. Он различил далекий голос отца, едва долетевший до него из-за высокого глиняного дувала, но не тронулся с места, даже не откликнулся. Жадными глазами Хаятолла наблюдал за курганом, угадывая момент, когда оттуда выстрелит, сотрясая воздух и землю, длинноствольная пушка сорбозов*...
_______________
* С о р б о з - солдат афганской армии.
Однако было похоже, что сегодня ничего интересного больше не произойдет. Видимо, пыльная буря остановила и бандитов, о которых упорно поговаривали в кишлаке, и теперь сорбозы напрасно ожидали в боевой готовности прихода душманов с гор.
Свирепый "охир заман", все сметающий на своем пути афганец, только что отбушевал, пески улеглись, и замутненное пыльной бурей солнце вновь ненадолго очистилось, запылало на закате с прежним усердием и жаром. Но душные синие сумерки уже наваливались на барханы, пустыня цепенела.
Хочешь не хочешь, а надо было возвращаться в кишлак.
Кишлак тоже отходил ко сну. Хаятолла заметил, что густые пряные дымы очагов больше не тянулись кверху, а стлались рвано и низко, бормотали в загоне овцы. Густой дух отары перемешивался с идущими от жилищ разнообразными запахами пищи, нагретого за день железа и хлеба... Все умолкало.