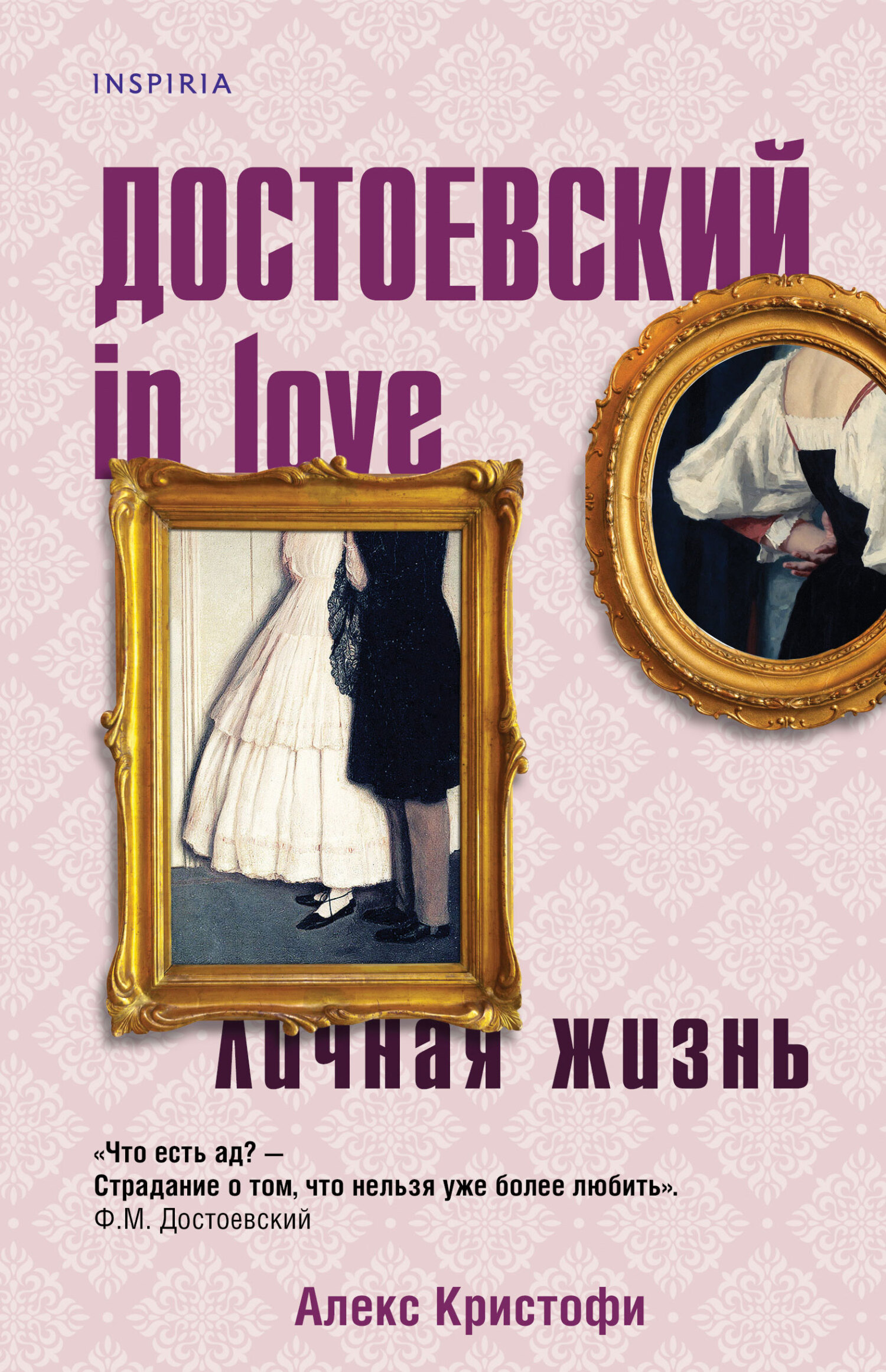Белинский писал, что его новый рассказ, «Господин Прохарчин», – «вычурный, maniere и непонятный» [87]. Единственным защитником Федора был новый главный критик «Отечественных записок» Валериан Майков – литературный вундеркинд даже по сравнению с Достоевским. На два года младше Федора, он уже сделал себе имя значимого критика. Майков видел – если Гоголь поэт социальный, то талант Достоевского – в психологии. «В „Двойнике“, – писал Майков, – он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением „Двойника“, можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи» [88].
Испытывая сильную взаимную симпатию, молодые люди быстро сдружились. Майков начал готовить длинную статью о впечатляющей литературной продукции Достоевского: «Бедные люди», «Двойник», «Роман в девяти письмах», «Господин Прохарчин», а теперь еще и «Хозяйка». Стоило Майкову закончить статью, и Достоевский будет реабилитирован, предстанет одним из самых значимых авторов своего поколения. Майков еще работал над ней, когда в один прекрасный летний день отправился на долгую прогулку в окрестностях Санкт-Петербурга, разгоряченный жарой, вошел в озеро, чтобы искупаться, – и умер «от апоплексического удара».
Всё это отнюдь не помогло ипохондрии Федора. Он болезненно увлекся чтением медицинских текстов, в особенности по френологии, психическим и нервным болезням. Вчитывался в перечни симптомов, надеясь отыскать название тому, что с ним происходило. Иными ночами не мог заснуть. Он страдал от трудноуловимых галлюцинаций и писал – лихорадочно, почти маниакально [89]. Он перестал доверять собственным чувствам и однажды ночью даже внушил себе, что умирает.
По мере того как наступала темнота, комната моя становилась как будто просторнее, как будто она всё более и более расширялась, и с самого наступления сумерек я стал впадать в то состояние души, которое я называю мистическим ужасом. Это – самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что, как бы в насмешку всем доводам разума, придет ко мне и станет передо мною как неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Мне кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецов [90].
Примерно в это время доктор Федора, Степан Янковский, столкнулся с ним на Исаакиевской площади. Воротник Достоевского был расстегнут, его поддерживал солдат. Он бредил, и единственное, что сказал Янковскому, пока тот вел его домой, было: «Я спасен!» Доктор пустил ему кровь. Та была черной – плохой знак. Даже успокоившись, пациент выглядел тревожным и несчастным. Казалось, с ним приключился какой-то нервный срыв. Коль неудовлетворен человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не из самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить свое Я в действительной жизни), то сейчас же и впадает он в какое-нибудь самое невероятное событие; то, с позволения сказать, сопьется, то пустится в картеж и шулерство, то в бретерство [91]. Или, мог бы добавить он, станет революционером.
Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. И хоть и прежде было не лучше, но всё как-то чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить [92]. Во время одной из таких прогулок Федор встретил человека, который подвел его под расстрельную команду.
Он шел по Невскому проспекту, когда к нему приблизился невысокий, актерского вида человек в плаще. Между густой бородой и широкими полями шляпы сверкали черные глаза.
– Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить? – спросил незнакомец [93].
Он представился Михаилом Васильевичем Буташевич-Петрашевским. Младше Федора на два дня, он работал переводчиком в Министерстве иностранных дел. Работал не из-за денег, ибо был богат, но ради доступа к запрещенным книгам, часть которых перекочевала в его библиотеку.
Петрашевский представлял собой странную комбинацию фривольности и преданности идеям. Он был утопическим социалистом, последователем Фурье [94]. С одной стороны, пытался привнести свои принципы в реальность и даже основал коммуну для своих крестьян. (Те приветствовали идею, пока не закончилось строительство «фаланстера», после чего сожгли его дотла.) С другой стороны, зачастую казался не более чем фигляром – однажды, когда начальник велел ему остричь волосы, заявился на работу в длинном парике. У Петрашевского был свой круг друзей, гораздо более политически ангажированный, чем круг Белинского. Если опускаться до мелочности, можно было бы сказать, что общим во всех его предприятиях было стремление стать центром внимания.
Петрашевский был богат, но его дом на Покровской площади был маленьким и дурно обставленным (хоть у него и было пианино). Федор нашел это приятным отличием от круга Белинского. Гости часто беседовали до двух или трех часов утра, возможно, соблазняясь бесплатной едой и напитками. Если уж очень подливали, – а это случалось, хотя и не часто, – то приходили в восторг, и даже раз хором пропели «Марсельезу» [95]. Федор узнал младшего брата Валериана Майкова, Аполлона, который только начинал поэтическую карьеру, и хоть тот не выказывал братниной гениальности, они легко находили общий язык, распивали чай и вместе курили. Иногда Федор брал книги по социализму, западнические и славянофильские, христианские или атеистические из внушительной библиотеки Петрашевского. Но по большей части просто стоял среди гостей, рассуждающих о правильном мироустройстве. Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, о правах женщины, и пр., и пр. [96].
Особый интерес вызвала речь, прочитанная Николаем II группе дворян о возможности освободить крепостных, превратив их в арендаторов. Не было понятно, как это может сработать, но то, что царь об этом хотя бы задумался, уже было огромным шагом. Из всех обсуждавшихся вопросов более других заботило Федора освобождение крестьян. Строго говоря, он сам мог считаться землевладельцем, но многие из самых теплых его воспоминаний детства были связаны с Даровым, общением с крепостными и играми с их детьми. Однажды он пробежал две версты за стаканом воды для крестьянского ребенка, пока его мать работала в поле. Сама идея владения людьми как имуществом казалась Федору безнравственной.
Возможность освобождения крестьян уже какое-то время обсуждалась