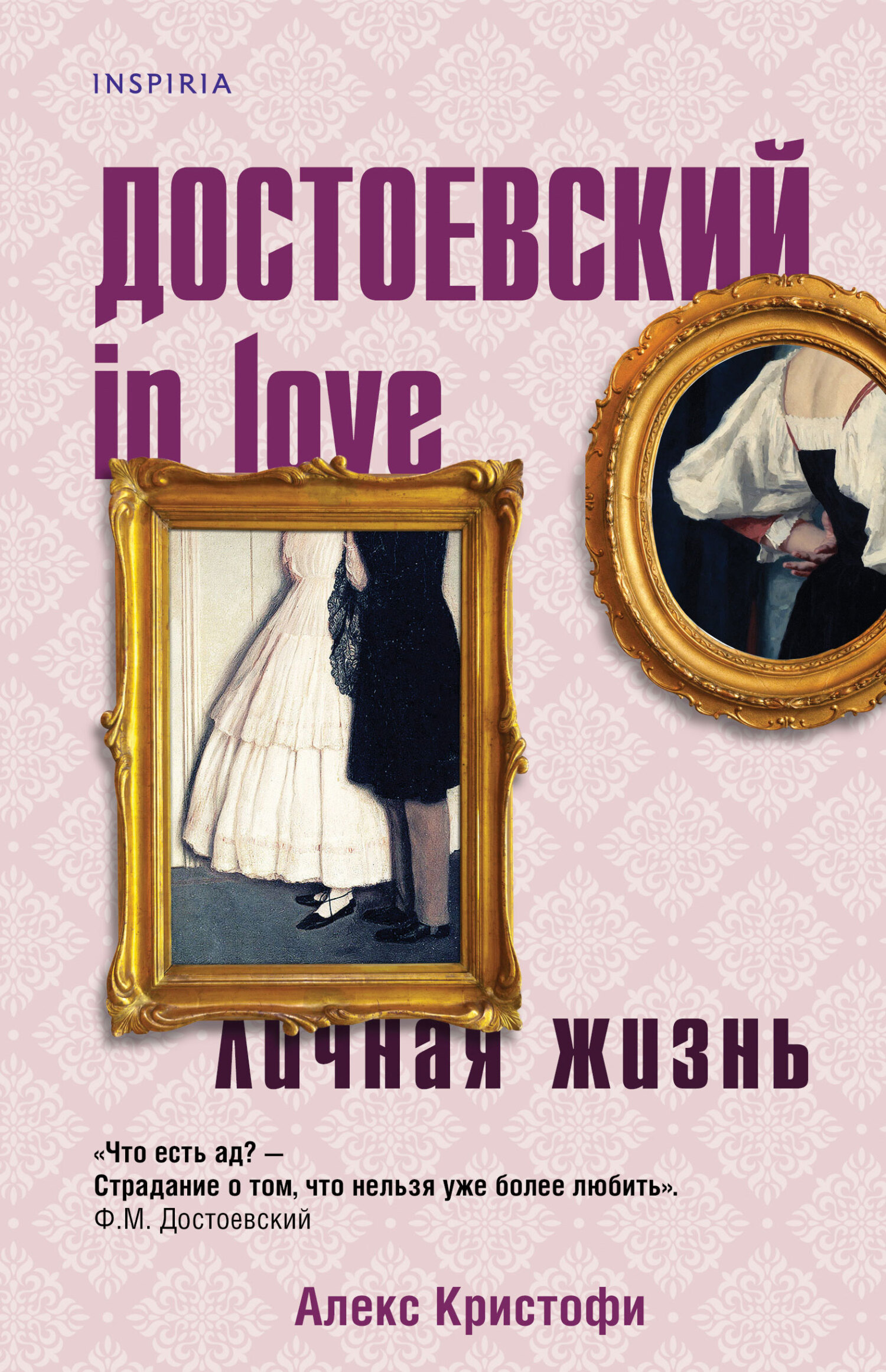если это будет возможно. В вас мы сомневались, ибо вы слишком самолюбивы [106].
– Как так? – изумился Майков.
– А вы не признаете авторитетов, вы, например, не соглашаетесь со Спешневым.
– Политической экономией особенно не интересуюсь. Действительно, мне кажется, что Спешнев говорит вздор; но что же из этого?
– Надо для общего дела уметь себя сдерживать. Вот нас семь человек: Спешнев, Мордвинов, Момбелли, Павел Филиппов, Григорьев, Владимир Милютин и я – мы осьмым выбрали вас; хотите ли вы вступить в общество?
– Но с какой целью?
– Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок, его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; все готово.
Если Федор ожидал, что Майков будет польщен, то он ошибался.
– Я не только не желаю вступать в общество, но и вам советую от него отстать. Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры?
Они спорили некоторое время, прежде чем отойти ко сну, и первым делом с утра Федор завел разговор на ту же тему. Но Майков был тверд.
– Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и, повторяю, – если есть еще возможность, – бросьте их и уходите.
– Ну это уж мое дело, – раздраженно ответил Федор. – А вы знайте. Обо всем вчера сказанном знают только семь человек. Вы восьмой – девятого не должно быть!
– Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать.
Федор верил Майкову больше других. Но не Майков и предал их.
В четыре утра 23 апреля 1849 года Федор вернулся домой после встречи с Григорьевым и лег спать. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: «Вставайте!» Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами [107]. Еще один солдат в синей униформе – униформе Третьего отделения [108] – стоял у двери.
– Что случилось? – спросил Федор, поднимаясь с постели.
– По повелению… – Кажется, у них был приказ на его арест. Ситуация казалась немного гротескной – они при всех регалиях, а он в одном исподнем.
– Не позволите ли вы… – начал Федор.
– Пожалуйста, не беспокойтесь. Одевайтесь, мы подождем, – сказал полковник еще любезнее. Федор оделся, и они спросили о его книгах. Все его бумаги и письма были тщательно собраны и связаны бечевкой.
Нашли они немногое, но при обыске создали сущий хаос. Один из офицеров, видимо, желая продемонстрировать свои сыскные таланты, подошел к камину и переворошил пепел. Другой встал на стул возле камина, проверить, не спрятано ли что-нибудь в стене, и свалился с ужасным грохотом. Первый поднял старую монетку и внимательно изучал ее, возможно, считая ее платой за труды.
– Что, думаете, фальшивая? – спросил Федор.
– Ну нам придется разобраться, – запнулся офицер и добавил монетку к конфискованным материалам.
Все вместе вышли на холодный воздух, где ждал экипаж. Квартирная хозяйка и ее муж, должно быть, разбуженные падением полицейского, вышли проводить их. Старик смотрел на Федора безучастным, официальным взглядом. Сели в экипаж, и тот отправился к Фонтанке, через Цепной мост и вдоль Летнего сада.
Там было много ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Кто-то донес на них. Дурова арестовали, и Петрашевского тоже. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал… беспрерывно входили голубые господа с разными жертвами. Одним из приведенных был младший брат Федора, Андрей, что изрядно запутало «голубых господ», пока те не сообразили, что его, вероятно, спутали с Михаилом. Брат не сделал ничего, что могло бы привести к длительному заключению, но Федор взмолился, чтобы Андрей не раскрывал карт сразу же, а дал Михаилу возможность разобраться с делами и попрощаться с женой и новорожденным ребенком.
Не получив никакой информации, измученные и взволнованные поэты собрались вокруг высокопоставленного офицера, который держал в руках список имен. Возле имени Антонелли была пометка: «Полицейский агент».
Значит, это был Антонелли.
Около полуночи Федора перевезли в Петропавловскую крепость, где некогда Петр Великий приказал пытать собственного сына. Острый шпиль собора не столько тянулся к Богу, сколько пронзал небо. Федора провели в маленькую темную камеру Александровского равелина. Два на три метра спертого воздуха – но потолок очень высокий. Окна и двери зарешечены, кровать застелена серой тканью. Была ли это та камера, в которой декабрист полковник Булатов покончил с собой, разбив голову о стену? [109]
У Федора забрали 60 копеек, короткое потертое зимнее пальто, рубашку, жилет, исподнее, ботинки, чулки, шарф, платок и расческу. Ему выдали теплую серую тюремную робу и чулки, после чего дверь затворили. Здесь он проведет остаток года, покидая камеру только для допросов. До ареста Федор начал издавать дерзкий роман, одно из первых русских сочинений со сложной героиней, «Неточка Незванова». Он уже описал ее трагичное детство, безрассудное увлечение молодой княжной по имени Катя и по плану должен был перейти к молодости Неточки. Никто не писал ничего даже близко похожего, но теперь роману суждено было остаться неоконченным.
О, как бы счастлив я был, если бы мог сам обвинить себя! Я бы снес тогда всё, даже стыд и позор. Но я строго судил себя, и ожесточенная совесть моя не нашла никакой особенно ужасной вины в моем прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться [110]. Федор месяцами сидел в камере, не зная, что ждет его, вновь и вновь переживая прошлое. Он страдал от геморроя и нервических спазмов горла. Ему удавалось спать только пять часов из двадцати четырех, по ночам бодрствуя в постели четыре-пять часов, а есть он мог только касторовое масло. Нервы стали расстраиваться, и по ночам пол будто вздымался под кроватью, и казалось, что он находится в каюте корабля. И все же несколько месяцев спустя охрана разрешила короткие прогулки в саду, где Федор насчитал 17 деревьев, а позже даже позволила обзавестись свечой.
После бесконечных допросов были смертный приговор и последующая фальшивая казнь [111]. Все это было ужасно, настолько, насколько ему хватало воображения представить, но в то же время, если только он позволял себе подобную мысль, волнующе литературно. Он чувствовал себя главным героем повести Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти».
Михаила выпустили, и он пришел