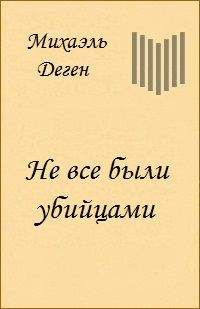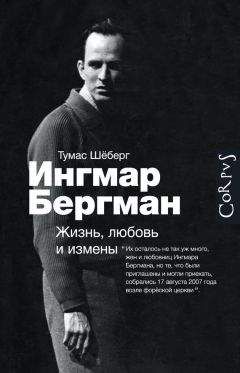Наконец звучал отбой, и мы слышали, как Дмитриева отпирает дверь квартиры. Она звала нас в музыкальный салон и спрашивала, как мы перенесли налет. Потом направлялась на кухню и готовила чай.
Свой чай она запивала большим количеством водки. Матери же водки никогда не предлагала. Скупилась, наверное. И чем больше она пила, тем веселей становилась и начинала рассказывать о России, о царе, о придворной жизни. Дмитриева была гофдамой, состояла на службе при царице. Она рассказывала нам о грандиозных балах, устраиваемых при дворе, об оргиях с шампанским и икрой — хорошенькие придворные фрейлины голым задом садились в наполненные икрой блюда, а молодые придворные офицеры эту икру потом с них слизывали. «Вот это была жизнь», — со вздохом говорила она, глядя на меня блестящими глазами.
Я находил эти рассказы отвратительными, а Людмилу считал очень противной. Поэтому постоянно изводил мать вопросами — когда же наконец Карл Хотце заберет нас отсюда.
Однажды после очередного вопроса мать внимательно посмотрела на меня и сказала:
«Молись Богу, чтобы мы оставались тут еще долго».
«Но ведь мы здесь в самом центре города и его очень сильно бомбят. Когда-нибудь бомба наверняка попадет и в этот дом. А в пригороде можно укрыться в траншее под навесом».
«Бомбят везде».
«Пригород бомбят гораздо реже».
«А почему ты думаешь, что Хотце захочет устроить нас в пригороде? Если он вообще захочет».
«Ты же говорила — он сам живет в пригороде».
«Почему ты думаешь, что он сможет поселить нас там? Может быть, он хочет оставить нас здесь до конца войны. Кто знает? Не должно же с нами случиться что-то еще худшее».
Она улыбнулась, обняла меня. Я не стал ей возражать. Матери было хорошо здесь. Она считала, что именно здесь лучше всего пережить войну. Другой возможности она просто не видела.
Людмила была блестящей пианисткой. Шопена она могла играть бесконечно.
Вначале она оставляла открытой дверь музыкального салона, и мы могли только слышать музыку. Мне это очень нравилось. Позднее она стала приглашать нас в музыкальный салон, ставила там два стула, наливала нам чай. Мы ставили наши чашки на пол. Мать делала мечтательные глаза и разыгрывала светскую даму.
Я же очень скучал. Иногда, наигрывая что-нибудь, Людмила рассказывала о своей жизни. По какой-то причине — я думаю, это была несчастная любовь — она оставила службу при дворе и вышла замуж за богатого еврея по фамилии Эпштейн, с которым уехала в Берлин. Она жила с ним в этой квартире, а в начале тридцатых годов развелась. При разводе Эпштейн оставил ей приличную сумму. Он уехал в Америку и вплоть до начала войны присылал ей деньги и ценные подарки.
Она рассказывала об этом с такой легкостью, так беззаботно и даже весело, что мать начинала безудержно смеяться. Но мое лицо от этих рассказов всегда становилось мрачным. И однажды после очередной веселой истории про Эпштейна Людмила спросила, почему во время ее рассказов у меня такое печальное выражение.
«Мне его жаль», — сказал я.
«Почему?»
«Я и сам не знаю — просто жаль его».
Людмила засмеялась и ударила по клавишам. «Это из фортепианного концерта Чайковского», — объяснила она.
Проснувшись однажды ночью, я увидел Людмилу, стоявшую возле моей кровати. Я ужасно испугался и чуть не закричал от страха, но она быстро зажала мне рот ладонью. От нее пахло водкой и табаком. Заметив, что мой испуг прошел, она села на край кровати и спокойно посмотрела на меня.
«Не мог бы ты пойти ко мне ненадолго? Знаешь, у меня тоже был маленький мальчик. Когда он умер, ему было столько же лет, сколько тебе. Я его очень любила. Мы обычно лежали вместе в одной кровати, и мальчику нравилось, когда перед сном я рассказывала ему разные истории. Хочешь, я расскажу тебе сказку?»
«Мне уже двенадцать лет».
«Я знаю».
«Мне скоро будет тринадцать».
Я не знал, как от нее отделаться.
«Я же тебе сказала — моему мальчику было столько же, сколько тебе».
Она становилась все более нетерпеливой.
«Сегодня ночью я не могу быть одна — у меня сегодня одна очень печальная дата. Понимаешь? В этот день я уговорила мужа дать мне развод».
«Почему?»
«Я расскажу тебе. Я хотела бы рассказать это каждому — пусть меня поймут правильно».
Она была очень пьяна. Любопытство мое становилось все сильнее, но страх не отпускал меня. Хотя немного успокаивало, что мать спит рядом, в соседней комнате. Людмила мягко, но настойчиво тянула меня из кровати. С большой неохотой я подчинился. Что делать? Закричать? Разбудить мать? Какие последствия это будет иметь для нас обоих? Дмитриева просто выставит нас на улицу.
«Ладно», — подумал я. — «Не прячет же она пистолет под подушкой!»
При мысли об этом я вдруг рассмеялся. Людмила снова зажала мне рот ладонью.
«Что это тебя так рассмешило?» — спросила она.
Я ответил, что не уверен — не спрятан ли у нее под подушкой пистолет.
«Ах вот оно что!» — рассмеялась Дмитриева. Крадучись, мы прошли мимо комнаты, в которой спала мать, и через музыкальный салон вошли в комнату Людмилы.
Потом мы, согреваясь, лежали в ее постели. Комната Людмилы была на удивление скромно обставлена. Правда, кровать была широкая. Сегодня я назвал бы эту комнату с ее спартанской обстановкой жилищем холостяка. Комната, вероятно, не отапливалась, в ней было холодно и неуютно, да и лежать в постели с Людмилой было довольно противно.
Неожиданно она захотела знать, обрезан ли я. При этом она по-девчоночьи хихикала. Я радовался, что в комнате было темно и я не видел ее лица.
Она снова заговорила о своем муже — он был тоже обрезан, и ей это ужасно нравилось. Она хотела бы спать только с обрезанными мужчинами. Но разве найдешь такого в сегодняшней Германии? Время от времени, не переставая говорить, она отхлебывала от стоящей рядом с кроватью бутылки. Я попытался отодвинуться на край кровати, но скоро потихоньку заполз обратно под одеяло — Людмила, сознательно или нет, придерживала его, и я страшно замерз.
Внезапно она придвинулась ближе и прижалась ко мне. «Да ты совсем закоченел», — сказала она и принялась ласкающими движениями массировать меня. Потом я почувствовал ее руку на моем члене. «Нравится?» — спросила она. Голос ее слегка дрожал. Я ничего не ответил. Мне было противно и одновременно хорошо. Я молчал и позволял ей действовать дальше. Лицо ее мне видеть не хотелось. Было совсем тихо. Людмила взяла мою руку и стала ею гладить себя по телу там, где она хотела.
Наконец она расслабилась и опять заговорила девчоночьим голосом:
«Ты уже совсем мужчина, маленький мужчина».