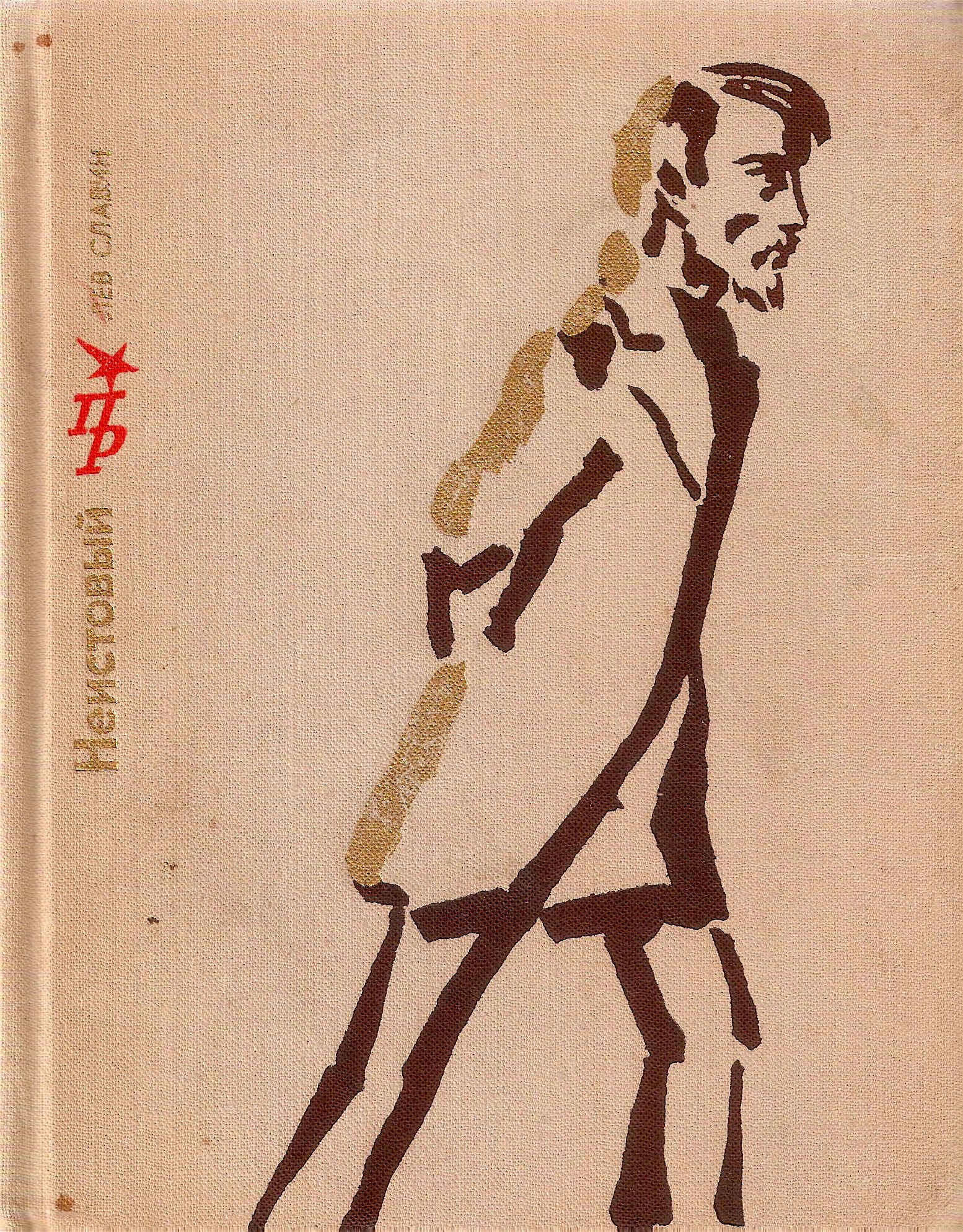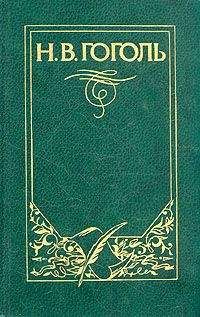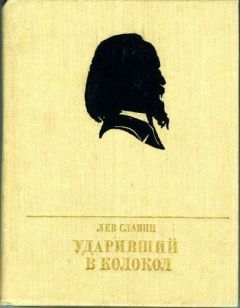А. П.»
Не для благоразумия рожденные
Я больше всего люблю друга за то, что у него есть недостатки, о которых с ним можно поговорить.
Вильям Гезлитт
Через несколько дней Пушкин объявил Нащокину о своем отъезде. Был при этом спокоен и невесел.
Нащокин огорчился:
— Ты, однако же, не собирался так скоро.
— Наталья Николаевна со дня на день должна родить. Когда я при этом дома, ей покойнее. Да и мне.
Помолчали. Нащокин задумчиво выколачивал пепел из трубки. Посмотрел исподлобья на Пушкина, сказал:
— Да... Разумеется...
Они глянули друг на друга и рассмеялись. Пушкин вскочил, зашагал по комнате.
— Конечно, и это. Последние роды, когда явился на свет Гришка мой, были нелегкие. Но что таиться: мне в Москве больше делать нечего. Это не более чем губернский город, получающий журналы мод.
— Пушкин, я люблю Москву.
— Потому что она тебя любит. А меня она не жалует. Она меня отвергла.
— Не кощунствуй. Тебя обожают.
— Кто? Молодежь? Да, в университете студенты нынче устроили мне овацию.
— И ты об этом мне ни слова!
— Так ли это важно!
— А все яге расскажи.
— Изволь. Уваров привез меня в университет. Привел на лекцию по истории русской словесности. Ну, ты ведь знаешь Уварова,— подлец привержен к театральным эффектам. Широким пластичным жестом, достойным Каратыгина, указал на профессора Давыдова и молвил, обращаясь к студентам: «Вот вам теория искусства». Потом такой же балетный выпад в мою сторону: «А вот и само искусство!» Воображаю, сколько раз он репетировал эту сцену дома перед зеркалом.
— Ну, а студенты?
— Ну, а студенты, натурально, уставились на меня глазами идолопоклонников. А что с того? Молодежь всегда в оппозиции. А мне примыкать к оппозиции едва ли не слишком поздно. Нынешнее поколение мне известно плохо. Но скажу только, что в мое время в стихотворцах было больше учености и душевной теплоты, а в историках — менее шарлатанства. Вообрази, что Шевырев с Погодиным да и прочие «наблюдатели» не взяли новую повесть Гоголя «Нос», нашли в пей тривиальности и грязь. Остроумнейшая и прелестнейшая повесть, и я беру ее для «Современника». Впрочем, одного ли Гоголя,— они и меня третируют. Как же! Шевырев противопоставляет мне Бенедиктова. Он, изволите видеть, поэт мысли. А у меня, оказывается, только форма. Стало модным говорить: «Пушкин в упадке», «Пушкин более не выдает ничего высокого». Наши критики не обратили внимания на мою пьесу «Анджело» и считают, что это одно из слабых моих произведений, тогда как ничего лучшего я не написал.
Нащокин покачал головой с явным сомнением, но промолчал.
— А я тебе скажу, друг мой, я пишу много для себя. А печатаю поневоле и единственно для денег: охота являться перед публикой, которая тебя не понимает, чтобы четыре дурака ругали тебя потом шесть месяцев в своих журналах только что не поматерну! Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок.
— «Наблюдатели» и есть самые аристократы,— решился заметить Нащокин.
— Ай да Павел Войнович, кольнул меня. Что ж, не скрываю, я горжусь своим шестисотлетним дворянством, да и ты — тем, что ведешь свой род от боярина...
Павел Войнович вставил:
— ...Афанасия Лаврентьевича, царственные большие печати и государственных великих дел сберегателя.
— Вот-вот,— подхватил Пушкин.— Мы с тобой этим гордимся, но не чванимся. Литература и аристократические предрассудки — две вещи несовместные. Мне, признаюсь, тесно в замкнутом круге писателей-аристократов. Они из Питера ныне тянут длани в Москву.
— Полно! У тебя разыгралось воображение.
— Не веришь? Так слушай.
Пушкин сел на диван рядом с Нащокиным, по своему обыкновению, подогнув под себя ногу.
— Почувствовав к себе со стороны «наблюдателей» холодность и отчуждение, я стал выведывать у них, в чем дело, обиняками, конечно, ну, они-то народ — остротой ума не блещут, даром что профессора да магистры, все мне и разболтали. Спохватились было, да я сделал вид, что не понял.
— Не тяни, сделай милость.
— Оказалось, что Одоевский и Краевский ведут с ними тайком от меня переговоры, чтобы вместе основать новый журнал. Не далее чем в феврале нынешнего года — слышишь, Нащокин! — Одоевский писал Шевыреву: «Мы вам доставим нашу программу и наши условия».
Нащокин молча смотрел на разгоряченное лицо Пушкина. Потом, выпустив изо рта табачный дым кольцами, молвил:
— Между прочим, подлость.
Пушкин пожал плечами, Нащокин спросил:
— Ну, а князь Петр осведомлен?
— Вяземский? Не поручусь. Но ведь все это в конечном итоге обречено на провал. И вот почему: в замышляемом новом журнале Одоевский и Краевский никак не уживутся. Одоевский разделит власть с Вяземским. Сии два князя, стало быть, станут руководителями. Сильно, однако, сомневаюсь, чтобы язвительный бас Вяземского сумел слиться в унисон с романтическим блеянием Одоевского. Ой, боюсь, что мы будем свидетелями вульгарной потасовки между двумя Рюриковичами... А впрочем, оставим это.
Пушкин прошелся по комнате. Его сопровождал неотступный задумчивый взгляд Нащокина.
— Мемории твои,— сказал Пушкин, внезапно остановившись,— беру с собой. Ты мог бы быть писателем. Но не будешь им. Писатель — это не только качество, но и количество. А ты ленив. Но я знаю, как тебя впрячь в писание. Но мемориям твоим слегка пройдусь пером и опубликую с примечанием: «Продолжение в следующем нумере». И уж ты хочешь не хочешь, а вынужден будешь продолжать, чтобы не подвести меня. Голос дружбы сделает тебя писателем.
— Какой из меня писатель!..
— А ведь ты, друг мой Павел Войнович, не только писатель. Ты вдохновитель писателей. Ты уж однажды подсказал мне сюжет моего разбойничьего романа «Дубровский».
— Который так и не напечатан.
— Только ли он! А «Медный всадник»?.. Так вот, Нащокин, задумал я роман. Читал ли ты Бульвера «Пелам, или Приключения