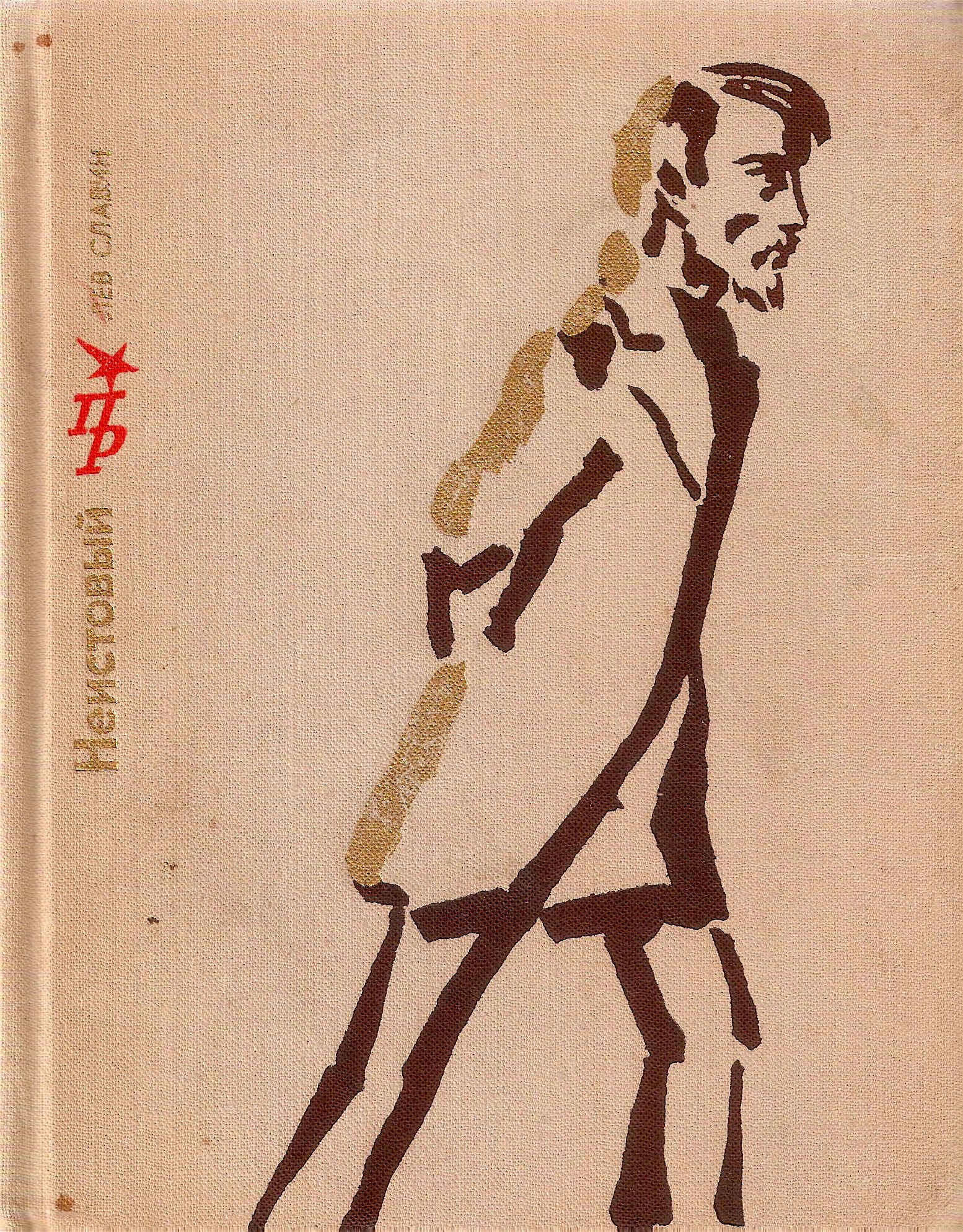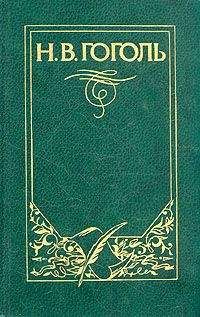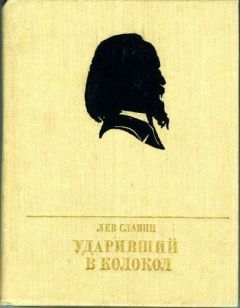— Находчив, мошенник,— сказал Пушкин с оттенком восхищения.
Нащокин перекрестил его:
— Dieu vons tienne en sa qarde! [16]
Пушкин вздрогнул.
— Что с тобой? — испугался Нащокин.
Пушкин провел рукой по лицу, как бы стирая наваждение.
— Ничего,— сказал он, улыбнулся, прижал к груди Нащокина и легко прыгнул в коляску.
Премухинская идиллия и пятна на ней
Есть высшая смелость. Смелость изобретения... где план обширный объемлется творческой мыслью.
Пушкин
Ну, вот наконец август, летнее затишье. Хоть Москву и называли большой деревней, но — это питерские злонамеренные остряки. Словом, все влечет в Премухино.
Еще только знакомясь в прошлом году с Мишелем Бакуниным, Неистовый испытал смущение, нечто вроде благоговейного страха, который, впрочем, внушал ему не этот атлет с львиной головой, а сознание, что он брат сладостно-таинственного созвездия четырех сестер. Имена их упоминались в кружке Станкевича как бы окутанные каким-то нимбом, неясно сияющим и оттого еще более заманчивым. И когда Мишель, возвращаясь нынче весной в Премухино, пригласил туда Белинского, тот от радости пошатнулся, ему показалось, что у него земля под ногами загорелась. Но только в середине августа, сбросив на руки Надеждину журнал «Телескоп» и еженедельник при нем «Молву» и поручив студенту Вологжанинову, коего поселил у себя на квартире, заботы о корректуре и прочие типографские хлопоты, Виссарион устремился в Премухиио.
Мишель, сероглазый, с лицом необыкновенно живым, преимущественным выражением которого было задорное упорство, принял Белинского как родного. Виссарион первые дни не выходил из состояния восторженности. И этот огромный парк, до того разросшийся, что местами напоминал лес, и этот просторный барский дом с лощеными иолами, с фамильными портретами на стенах, с хорошо вышколенной дворней, такой бесшумной, что ее вовсе как бы и не было, и светлая речка Осуга, и — творение славного зодчего Львова — пышная белокаменная церковь в европейском стиле...
А отец Мишеля... Совсем не то, что, может статься, вы думаете: уездный помещик, опустившийся, в засаленном халате, с полупьяными воспоминаниями о лихой гусарской молодости... Что вы, что вы! Европейски образованный человек. Магистр философии, защитивший диссертацию при Падуанском университете. В недавнем прошлом дипломат, а ныне отдающий свои досуги сочинению: «Опыт мифологии русской истории». Джентльмен и щеголь, начиная от прически с напусками на виски по моде начала столетия и кончая бантами на туфлях, как было принято когда-то при дворе матушки Екатерины Великой.
И девушки... Как передать их обаяние? Красавицы? Ах, не в том дело. Крупными чертами лица они походили на брата, но что у Мишеля было выражением силы, у Любови, Татьяны, Варвары и Александры обернулось добротой. Так все-таки красавицы? Не знаю. Но молодость, душевное изящество, наследственная культура делали сестер Бакуниных необыкновенно привлекательными. Станкевич называл семейство Бакуниных «премухинской гармонией», приравнивал его к некоей нравственно-возвышающей школе...
Поначалу все четыре девушки слились в глазах Белинского в один сияющий образ. Он испытывал влюбленность,— да, это бесспорно, он влюблен. Но в которую? Он не мог бы ответить на этот вопрос. Во всех четырех. Танюше он диктовал свою статью о книге Дроздова «Опыт системы нравственной философии» и любовался тем, как она, мило склонив головку, старательно нижет строки своим ровным почерком, из которого еще не совсем выветрилось что-то детское. Любе и Вареньке он представлял в лицах сцены из «Ромео и Джульетты», поражая девушек не столько декламаторским пылом, сколько изумительной памятью своей. Александре он рассказывал о Гоголе, заражая ее своей страстной к нему любовью. Он вписывал девушкам в альбомы потаенные стихи Пушкина, коего обожал, и, пока бесшумная и словно бы невидимая челядь разносила чай и затейливые пирожные, произведение искусника повара, приобретенного за немалые деньги, четыре женских головки, сгрудившись вокруг Белинского и следя за его рукой, с трепетом повторяли: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец прекрасная заря?..» В эти минуты Виссарион забывал, что Любаша — невеста его друга Станкевича, а Варенька замужем за неким Дьяковым. Он любил их всех.
Только постепенно он стал отдавать предпочтение одной. И все увидели это. Разумеется, и она.
— Внешний мир — продукт нашего мышления. Реально только наше Я. Объективной действительности нет,— говорил Мишель, взволнованно ероша свои каштановые кудри, растрепывая их (и вообще в нем была некая растрепанность, не только в одежде, на которую он не обращал никакого внимания, но в обилии и щедрости его талантов, в этих львиных бросках из живописи в музыку, из музыки в философию, из дружбы во вражду),— ты пойми, Виссарион, внешний мир призрачен...
Виссарион не читал по-немецки. Это делал за него Мишель. С исступленной страстью искал он «всеобъемлющую идею» — некую универсальную отмычку, долженствующую отворить все проблемы духа. Он нашел ее в философии Фихте. И с той же страстью принялся посвящать в нее Белинского. Ибо в этом и была сущность самого Бакунина — разъяснять, пропагандировать, увлекать, штурмовать, опрокидывать баррикады, вести за собой, предводительствовать, властвовать. Он ощущал в себе мессию. С восторгом неофита окунался Виссарион вслед за Мишелем в фихтеанскую отвлеченность.
— А сестрицы мои,— с сожалением сказал Мишель,— в отчаянии, что они так глупы, что, как ни бьются, никак не войдут во всеобъемлющую идею.
Белинский не поверил этому. Он сам взял на себя роль учителя. Он увел Александру в парк, усадил на ствол поваленной сосны, сам сел рядом и, испытывая наслаждение от этой близости, сказал:
— Идеальная жизнь и есть жизнь действительная, положительная, конкретная...
— Но что же он такое — этот идеал?
— Он незрим. Ибо зримое, то есть действительная жизнь,— отражение, призрак, ничтожество, пустота.
— А идеал? Что же он такое, в конце концов? Может быть, бог?
— Что такое бог, если не понятие о нем!
— То понятие, то идеал... Вас не поймешь! Какой вы смешной, Белинский! Поймите, это понятие мне непонятно...
Она запуталась в словах и засмеялась, но взглянув на строгое лицо Виссариона, присмирела и сказала почти робко, как школьница:
— Так есть бог или нет?