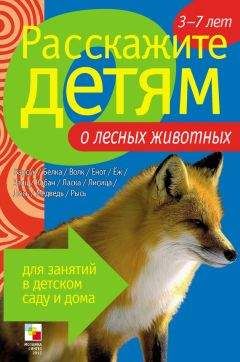В ближайшую пятницу намечался «джем-сейшн» — творческая встреча джазовых музыкантов в ресторане «Дружба». Пианист рафик Бабаев вернулся с гастролей из Турции; из Москвы приехал пианист Габиль Зейналов, барабанщик Валя Багирян и контрабасист Алик Ходжа-Багиров. Мы с Владимиром Георгиевичем пораньше поднялись в парк Кирова, чтобы успеть с высоты полюбоваться бакинской бухтой.
На «джем-сейшн» собрался весь джазовый бомонд. Слишком велик соблазн перечислить хотя бы часть присутствующих в зале музыкантов: это Вова Владимиров, Рафик Бабаев, Мурик Маковский, Миша Петросов, Тофик Мирзоев и другие. Для большинства читателей эти имена по-видимому ни о чем не говорят, но без них Баку шестидесятых-семидесятых невозможно было бы себе представить: они во многом определяли музыкальное лицо города,— города, особенно в те памятные годы, живущего музыкой и народной, и классической, и джазовой.
Кто-то из музыкантов около сцены повесил фотографию Кейта Джарретта. Странное это дело — лица музыкантов. Теоретически облик музыканта не должен иметь значения для слушателей, однако к моменту, когда нам понравилось значительное число его произведений, мы начинаем интересоваться внешностью автора. Это вероятно, связано с подозрением, что любить произведение искусства означает распознать истину. Неуверенные по природе, мы желаем видеть музыканта, которого отождествляли с его творением, чтобы знать, как истина выглядит во плоти.
В шестидесятые годы я мог часами просиживать, внимательно изучая фото того или иного музыканта, пытаясь угадать, что он за человек, пытаясь одушевить его и распознать в лице его музыку. Позже, в компании друзей, мы обменивались нашими смелыми догадками и обрывками слухов, которые до нас доходили, и, выведя общий знаменатель, объявляли свой приговор. Нужно сказать, что часто наши домыслы были не слишком уж далеки от истины.
Я смотрел на лица своих старых друзей Рафика, Гоги и Орика, сидящих за нашим столом и с волнением предвкушал интересный концерт, приближение которого возвещали звуки настраиваемых инструментов.
«Говорить о музыке — то же самое, что танцевать об архитектуре». Эту бессмертную фразу приписывают джазовому пианисту Телониусу Монку. И вот полилась наконец, как тонкий ручеек, знакомая блюзовая мелодия; притихли разговоры. Тяжело всегда начало, а дальше: сухое вино рекой разлилось по залу, а пробки, с треском вылетаемые из бутылок и брызги самого шампанского не щадили стен и потолков… Музыканты на сцене менялись почти после каждого номера…
Вскоре все закружилось в музыкальном калейдоскопе… загремели блюзы, боссановы, джаз-рок…
Сидевший рядом Владимир Георгиевич в недоумении прошептал мне на ухо:
— Послушай Саша! А где же у них ноты?
Он не мог себе представить, что вся эта музыка могла исполняться на слух, что все мелодии от начала и до конца — это, рожденная прямо на сцене, живая импровизация. Беседовать нам удавалось урывками — во время небольших антрактов или смены музыкантов. Изредка разговоры наши прерывались, уступая место тому пустому настроению, которое мы называем весельем. Когда же это настроение исчезало, беседы возобновлялись в приглушенной тональности, словно под некий аккомпанемент, который давал всем нам единение чувства и мысли. Мы — шестидесятники, это вскормленное джазом поколение, сидели за четырьмя столами, как бы охраняя сцену плотным кольцом. У всех у нас после первых же двух пьес, исполненных квартетом и двух-трех бокалов «Садыллы»,— проблемы, заботы, однообразие уныло бегущих часов и минут,— все отступило куда-то на задний план и окуталось мерцающей, золотистой паутиной… Все явления упорядочились и умиротворенно стали на свои места… Все приобрело какой-то отвлеченный, символический смысл…
Ввиду того, что беседовать через столы было крайне неудобно, Гога предложил объединить их в единый. Воспользовавшись случаем, он коротким тостом очень деликатно связал объединение столов с нашей дружбой, с единением наших родственных душ. Он говорил, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомое море разливалось перед нами, уходя в бесконечную даль. Гога был поэтичным сказочником. Он не столько анализировал жизнь, сколько окрашивал ее в свой, готаняновский романтизм, приподнимая ее, воспевал, чуть любуясь своей песней.
Меня всегда покорял его неподдельный пыл, щедрость, с которой он вкладывал себя в тосты, в пожелания; его умение расшевелить самых разных людей, ждавших от него каждый своей доли внимания, как солдаты своей порции от батальонного кашевара,— и все это легко, без усилий, с юмором, с неисчерпаемым запасом душевного богатства для всякого, кто в нем нуждался.
Помню его нравоучение после очередной вечеринки пятидесятых годов: «Шура! Если ты в компании сел за рояль, то желательно молча начать играть, а не нудно пересказывать присутствующим, что никогда не учился музыке и даже не знаешь ни единой ноты. Этим никогда никого не удивишь и тем более не взволнуешь! Единственное, что сможет тронуть твоих слушателей — только твоя музыка».
А беседа за нашим общим столом в ресторане заметно оживилась. Разговор пошел в основном о джазе: о новых направлениях в нем, последних дисках 1977 года, лучших концертах года, новых молодых звездах-американцах. Орик заострил внимание на последнем выступлении Майлса Девиса в Карнеги-холле…
И вдруг, Рудик Аванесов, в самый разгар возвышенных музыкальных споров, неожиданно для всех, задал вопрос на засыпку:
— «Чуваки!» А кто помнит самых красивых девушек города Баку пятидесятых годов?
Он мгновенно опустил всех нас на землю. После недолгих раздумий, все единогласно назвали Аду Летченко, Эльмиру Сафарову, Лену Портнову и Этери Кацитадзе. Орик предложил продолжить соревнование: «А кто не забыл бакинских красавиц шестидесятых?» И, слегка подвыпившие, сорокапятилетние «казановы» дружно проголосовали за Нину Саакову, Милу Васильеву, Наргиз Халилову и Нигяр Султанову. Но тут завязался отчаянный спор: в чьем же все-таки доме жила Нина Саакова? Я утверждал, что в моем доме номер шестнадцать на Лейтенанта Шмидта. Оппоненты настаивали на доме девять по улице Самеда Вургуна.
Меня умиляли эти подробности, они казались мне откровением, я как будто проник вдруг в заповедные тайники прошлого. Изрядное количество выпитого вина давало о себе знать: мы говорили теперь уже все вместе, жестикулируя и часто повышая голос… Смех за столом с каждой минутой лился все свободней, все расточительней и готов был хлынуть потоком от одного только шутливого словца.
Общий разговор, который в антрактах не умолкал ни на минуту, нанизывал одну тему на другую и по самому ничтожному поводу перескакивал с предмета на предмет. Наконец, утвердив бакинских красавиц, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся опять к выступлению легендарного Майлса Девиса в Карнеги-холле.