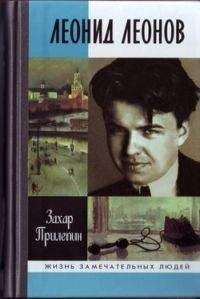История почти идиллическая, думая о ней, невольно улыбаешься. Правда, есть тут некоторые омрачающие моменты, которые скрыты.
Чистки идут и в Азербайджане: Баку полнится слухами.
Безвозвратно исчезают несколько ближайших знакомых Луговского по Средней Азии — военачальников, дружбой с которыми он так неосмотрительно бравировал. «Туркестанские генералы» — те, гумилёвские, помните? «“Что с вами?” — “Так, нога болит”. / “Подагра?” — “Нет, сквозная рана”».
И сам Луговской — весельчак, выпивоха, жизнелюб — пишет из Баку сестре Татьяне: «Внутри страшное горение и творческая тоска, когда одни явления видишь во всей их оголённости, а другие залиты густым туманом чего-то мучительного и вытягивающего все нервы… Чем больше пишешь и лучше, — тем больше утончается всё восприятие, и доходит это до психоза и нервной беззащитности… Ночная тоска. И отворено множество новых дверей, откуда несёт сквозным и горьким запахом творчества».
И хотя здесь через каждое слово пишется «творчество», неизбывно ощущение, что пишет он о чём-то большем, чем поэзия.
Или — меньшем.
К ноябрю 1938 года у Луговского выходит очередная книга. Называется — «Октябрьские стихи», содержание соответствующее.
«Светлый гром / Октябрьского парада / Раскрывает / Тайну бытия» — всё, как надо там, в этом сборнике. «Сталин / движет к югу эшелоны, / Ворошилов / бьёт издалека, / Ленин / входит в зал белоколонный, / И Дзержинский входит в ВЧК». Всех расставил по местам, никого не забыл, эти входят, движут и бьют, а Троцкий уже вышел.
В ту же осень выходит на экраны фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», одна из важнейших советских картин предвоенной поры. Вся страна слышит песню, сочинённую на стихи Владимира Луговского: «Вставайте, люди русские, / На смертный бой, на грозный бой!»
Казалось бы — всё устраивается, всё хорошо. Книжка, фильм, песня.
Однако кое-что настораживает: в рецензиях на «Александра Невского» постоянно цитируют стихи Луговского, а имени автора не называют. В чём дело?
Наконец, 5 ноября, за два дня до великого советского праздника, в газете «Правда» выходит разгромный фельетон Валентина Катаева «Вдохи и выдохи» на книгу Луговского.
Катаев тогда вообще имел привычку погромить, злой был.
Ладно бы Катаев — но это же высший партийный орган! Это же — «Правда»!
И в «Правде» пишут: «…неувядаемый образчик пошлости и политической безответственности!»
Луговского второй раз валит с ног.
Да, он, затравленный и задавленный, в чём-то солгал, сочиняя свои «Октябрьские стихи». Но зачем об этом собрат по литературе прокричал на весь Союз Социалистических Республик? И как ему жить теперь? Как ему писать? Как ему смотреть в глаза ученикам, которых он вчера погонял, и они беспрекословно слушались? Куда он поедет после такого фельетона — в какой Туркменистан, в какой Азербайджан? — на него все будут смотреть как на прокажённого!
В это время Луговской привычно отсиживался — на этот раз в Крыму. У него, между прочим, происходил кипучий роман с женой репрессированного военачальника — фотокорреспонденткой Вероникой Саксаганской. В этом смысле наш поэт был рисковым парнем, если не сказать больше.
И вот газета лежит возле кровати, Вероника и не знает, как на сложившуюся ситуацию смотреть: «Что, и — этого теперь?..»
Луговской мечется: в прошлом году во время проработки Фадеев советовал ему уехать — а в этот раз как быть? Когда он и так уже уехал! Утонуть?
Кое-как собравшись с мыслями, Луговской снова пишет Фадееву — это ведь ему в том же 1938-м Луговской посвятил трогательные стихи: «Уезжает друг на пароходе, / Стародавний, закадычный друг…», где сказано: «Долго жили мы и не тужили / И тужили на веку своём, / Много чепухи наговорили, / Много счастья видели вдвоём…»
Письмо огромное, страниц на десять, Луговской выкладывает всё, что накипело в последние годы.
«Меня глубоко обидели».
«В чём дело? В неважных стихах “Октябрьской поэмы”? Но ведь “Правда” день за днём печатает вещи на гораздо более низком уровне… Я найду тебе в десятках стихов Сельвинского и Асеева строфы куда более неудачные, мягко выражаясь. В “повышении качества”? Но ведь нельзя одной рукой систематически понижать качество стихов, как это делает литературный отдел “Правды”, а другой писать подобные пришибеевские фельетоны, долженствующие насадить красоту в садах советской поэзии».
«Как раз эти стихи мне давались нелегко, я самым принципиальным, самым честным образом стремился приблизиться к большой политической теме и много над ними работал. Это была не халтура, а линия».
Слово «линия» Луговской подчеркнул.
Фадеев отвечать не стал, может, и сам не знал ответа. Хотя в данном случае ответить можно было бы просто. Советская власть хотела не только того, чтобы поэты перестроились. Она хотела, чтобы, перестроившись, поэты работали всё так же хорошо, как до перековки. Чтобы стихи у них были, как у раннего Луговского, — но про новое, про сейчас!
В результате советская власть огорчалась, что перестраиваться они перестраиваются, а работу делают всё хуже. И всё хотела что-то подкрутить, подтянуть, подтесать у инженеров человеческих душ, чтобы они заискрили как следует.
«Прекрасный поэт Пастернак, — жалуется Луговской Фадееву, — которого в нашей печати, в политической печати смешивали с грязью, за два года не написал ничего нового, ни от чего не отказался, и вот он сохранил свои чистые одежды и снова поднят на щит…»
«Значит… — пытается понять Луговской, — но что же всё это значит? Ты сам… недавно сказал мне, что лучшая моя книга — “Страдания моих друзей”, т. е. книга, написанная до внутренней перестройки моей поэзии. Может быть, ни к чему было ломать копья?»
«…со мной поступили цинично и холодно. Мне этого не забыть. Это ли “сталинское внимание к человеку”?.. Из меня сделали обезьяну и вышвырнули вон…»
Воистину обидно: душу отдал, лиру отдал, к тому же искренне, по зову сердца — и что взамен?
«Я рад был бы самой жестокой критике, клянусь всей своей честью поэта, клянусь именем Сталина. Я погрустил бы, поёжился, но понял бы всё и, в конце концов, поблагодарил. Но в выступлении “Правды” перед Октябрьским праздником с таким фельетоном было нечто для меня унизительное, а всё дальнейшее только усилило это чувство непонимания и стыда…»
Книг Луговской три года выпускать не будет — иначе поймают твоей же собственной строчкой, как удавкой, опять будут душить. К чёрту, лучше переждать.
Новый, 1939 год Луговской встречает с Константином Паустовским и разномастной компанией (бывший символист Георгий Чулков, писатель со странной и несчастной судьбой, крымский завсегдатай Николай Никандров) в любимой Ялте — он старался ездить туда каждый год, да не по разу.