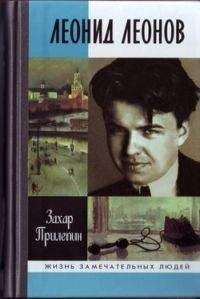Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обречённой на вечную муку…
Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:
— Какой человек удивительный. Кто же это может быть?
— Похоже, певец, — ответил из темноты неуверенный голос».
Через неделю после вторжения Германии в Польшу, 7 сентября 1939-го, Луговскому присуждено очередное воинское звание. Приказ Климента Ворошилова.
Долматовский писал: «Луговской получил три шпалы на петлицы и очень гордится этим. Военная форма ему идёт, он это знает и немножко красуется».
О том же писал другой его ученик, Наровчатов: «Как влитые сидели на нём шинель, гимнастёрки, бриджи. Фуражка с лакированным козырьком посредине лба. В сапоги глядись, как в зеркало… Интендант 1-го ранга, но, конечно, именовал он себя полковником. Весь в ремнях. Удивительно внушительный вид».
Интенданту 1-го ранга тут же предоставили возможность оправдать доверие партии и правительства.
Группа из четырёх литераторов — Пётр Павленко, Борис Левин, Долматовский, Луговской — получает приказ выехать в Смоленск.
«Пятнадцатого сентября в Смоленске, — вспоминает Долматовский, — бригадный комиссар Абрамов вызывает нас вдвоём с Луговским. Нам предложено написать песню, с которой советские войска могли бы, если окажется необходимым, перейти границу и освободить из-под панского гнёта Западную Белоруссию и Западную Украину».
Проще говоря, оккупировать часть Польши, чтоб вся она не досталась фашистской Германии — причём ту часть, что в основном была потеряна Советской Россией в результате русско-польской войны 1920 года.
В краткие сроки Луговской и Долматовский сочиняют боевые куплеты для того, чтобы воевать было веселей: «Белоруссия родная, Украина золотая, / Ваши светлые границы мы штыками оградим, / Наша армия могуча, мы развеем злую тучу, / Наших братьев зарубежных мы врагу не отдадим».
Песню про злую тучу назовут «Марш красных полков», и она будет петься во всех частях.
Границу поэты переходят в составе кавалерийских частей генерала Черевиченко.
«Мы словно сотню книг / в ту ночь перечитали. / В такую одну ночь / вмещаются года. / Ты, армия моя, / идёшь в броне и стали, / На башнях верный знак — / счастливая звезда». — Луговской чувствует себя на войне в своей шкуре, в своём месте, он по-гумилёвски упивается — тем более на такой стремительной, победоносной войне, где все рубежи рассыпаются при виде советских танков.
Уже в 1939 году он сделает целый цикл хороших, империалистических стихов.
«Вынув пистолеты, /мы входим в дом. / Зайчики играют на серебряной посуде. / За тяжелоногим дубовым столом / Час тому назад сидели люди… / В зеркале застыл ещё туманный след, / Жизнь чужая /медлит, /замирая слабо… / Где она оборвана — мне дела нет, — / Дом предназначен для нашего штаба».
Или другое, такое же, даже не по-гумилёвски, а по-багрицки почти сладострастное:
«Панна, панна! / Всё пропало. / Обыск медленный идёт. / Из холодного подвала / Поднимают пулемёт. / Он стоит на толстых ножках, / Плотный, тёмно-голубой, / Золотистую дорожку — / Ленту / Тянет за собой…»
«Дальней пули свист внезапный… / Пятый день идём на запад».
Красноармейцы дарят ему трофейную саблю — он её тут же цепляет на пояс.
Любопытный момент: уже на территории Польши Луговской с Долматовским попадают в здание польской полиции. И там они — впервые в жизни — видят наручники и резиновые дубинки. Невидаль!
В Вильно Луговской, Долматовский и старый знакомый Кирсанов получают очередной приказ: срочно наладить выпуск газеты — в редакции эмигрантского «Русского слова».
Едут по указанному адресу, по-хозяйски стучат в двери, грохочут, входя, сапогами, грозно взирают на остатки перепуганного коллектива — откуда местным журналистам знать, что перед ними поэты, циркачи стиха, а не зубастые чекисты и расстрельная команда.
Кто-то из троих аккуратно берёт последний номер газеты в руки — там же крамола и антисоветчина, должно быть, — а на первой полосе шапка: «Советские войска наступают! Гитлер застрелился!»
Эмигранты, стоит признать, оказались прозорливыми. Но чересчур оптимистичными в своей прозорливости.
Номер делают за ночь — утром выясняется, что тираж распространять некому: главред арестован, разносчики разбежались. Недолго думая Луговской и Кирсанов сами выступают в качестве продавцов газет. Ажиотаж огромный, номер рвут из рук…
К ноябрю Луговской вернулся в Москву. Снова Литературный институт, снова восторженные ученики: дядя Володя в скрипучих сапогах вернулся с очередной войны. Между прочим, Сергей Михалков в те годы Луговского знал хорошо — кто ж его не знал! — и вполне мог дядю Стёпу срисовать не только с себя, но и на куда больших основаниях с этого великана, перемешавшегося из одной «горячей точки» в другую. Разве что литературной детворе, любившей великана Луговского, было лет под двадцать.
Той осенью «дяде Володе» позвонил его ученик Михаил Луконин.
— Знаю, знаю, о чём хочешь поговорить, — опередил Луговской. — Жду тебя.
В ноябре 1939 года, сразу после Польской кампании, началась война с Финляндией — или, как говорили тогда, с белофиннами.
Сегодня уже трудно осознать, насколько велика была вера в советскую власть, вождя и правоту народа, — но на войну, в том числе из Литературного института, буквально рвались.
Проходили очень строгие собеседования, молодых поэтов пытались отговорить, без обиняков рассказывая, что там скоро будут чудовищные, даже по русским меркам, холода, что на войне со многими случается смерть.
Студенты шли к Луговскому за благословением: идти в бой, дядя Володя?
Он благословлял: идите.
Благословил Луконина, благословил других: с курса ушло на фронт восемь поэтов.
Может быть, Луговской думал, что и в Финляндии всё будет так же стремительно и мощно, как в случае с Польшей.
Но там уже было не так. Там было совсем иначе.
Ученики хотели стать его наследниками. Кто ж знал, что он не сможет принять наследство.
…Когда Луконин вернулся с финской, вся его группа собралась у Луговского дома. Сабли на стенах, кинжалы, винтовки. Хозяин радушен, мощен, красив.
Говорил своим басом смущённому и чуть озадаченному Луконину:
— А поворотись-ка ты, сынку! Да он славно бьётся! Добрый будет казак! — Роскошные брови сомкнул. — Вот что скажу: война — твой главный литературный институт, сынку!