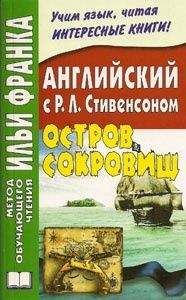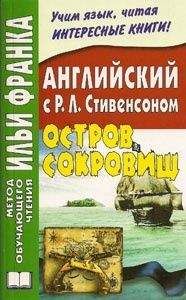Пушкин в нем выживет. Неудивительно: его масштабное промосковское действие, создание «Годунова», было, помимо прочего, учебой безвоздушного бытия. Он сумел окуклиться в затворе Михайловского, научился дышать временем. Более того, он занял место в центре русского литературного атома; прошу прощения — космоса. Его переход из 1825 года в 1826-й прошел болезненно, но без фатальных последствий. Пушкин перешагнул в пустоту будущего в бумажном «скафандре»; язык, составляющий Александру пищу для дыхания, в нем (Пушкине) и находился.
* * *
«Атомарный» сюжет 1826 года в отношении Пушкина содержит, по сути, одну главу, собственно ядро: «Пророка». Стихотворение, состоящее из материи словесного ядра; сверхплотной, имеющей силу невероятного смыслового и образного притяжения.
Если продолжить «физические» формулы, это прозвучит так: «Пророк» «весит» примерно столько же, сколько «Годунов». Равны по весу два года: переполненный 1825-й, имеющий на всем своем протяжении связный сюжет праздничной метаморфозы Пушкина, и «пустейший» 1826-й, у которого в самом центре, в июле, помещается ядро «Пророка».
Можно попытаться представить некий больший язык, гипотетическое строение, предположение о котором составляет сквозную линию настоящего исследования — большее «пространство слова», в котором были реализованы (сведены вместе?) спорящие потенции той эпохи. Такой, в котором были бы уравновешены силы русского сжатия и расширения, «московское» и «морское» наречия. Такое трудно себе вообразить — еще бы, если мы мыслим и пишем теперь только по-московски.
Вот почему является на ум этот невозможный вопрос. История показала, что этот московский «меньшой» язык (тип мышления) — центростремительный, сужающий поле реальных наблюдений, понемногу утомил самого Пушкина. По своей природе он был человеком центробежным, путешествующим. Его дальнейшая, постсобытийная эволюция, от 1826 года и далее, вся на это указывает: он все более определенно стремился от московского ядра [74]. И приходил во все большее противоречие со своим же (царским) очерком пространства 1825 года.
Наверное, так сказывалась его нереализованная тяга к путешествию, в первую очередь в Европу: желание, до конца дней не утоленное. Запреты, ссылки, полицейский надзор эту тягу только усиливали.
Пушкин составил для себя миф о заморском (европейском) рае и не успел в нем разочароваться. Карамзин и Чаадаев успели: они поехали в Европу и затем оба вернулись (не они одни), хоть и по разным причинам, но в одном убеждении, что там, при всем комфорте пребывания, они никогда не станут своими, не заговорят уверенно на своем языке — до такой степени он не совпадает с любой иной, кроме российской, окрестностью. Эти свойство и чужеродность, притяжение и отторжение внешних пространств ими были испытаны, Пушкиным — нет. Ему не дали оглядеться и остыть в Европе, удержали во внутренней изоляции. Отсюда эти непреходящие грезы и вождения пальцем по карте с нарисованными далекими морями.
И все же мысль о большем русском языке не оставляет, мысль о возможности расширяющегося пушкинского текста.
* * *
Его странствия обозначали не линии, но грани, переломы измерений. Не по плоскости, но вдоль по трещине, разделяющей миры знакомый и неведомый, двигалось его слово. Всегда по краю; так написано на карте: у других «части света», у нас — «края».
Это пограничное видение себя в пространстве унаследует Лермонтов. Осознание себя на границе миров, томительное ощущение возможности взглянуть в мир больший: таково чувство, направляющее русского путешественника.
Оно превратило Пушкина в одного из лучших медиаторов русской ментальной сферы.
* * *
С переходом из 1825 года в 1826-й эта сфера сделалась пуста и гулка. Пространство сохранилось в переполненных головах русских мечтателей о путешествиях. Внешние пустоты забрали их в тиски; головы мечтателей стали тяжелы как ядра; духовные напряжения отдавали звоном и внешней немотой. Мысль сделалась отражением геологического (не географического) процесса.
Как-то раз в библиотеке я обнаружил в книжных залежах брошюру: «Месторожденiе Александра Пушкина» и не сразу понял, что это всего лишь столетней давности пропись обыкновенного места рождения. А уже фантазия нарисовала невесть что: угольные копи, черную пыль, каторжане с заступами — роют книгу. Из-под земли появляется каменный истукан, черный лицом. За сто лет пушкинское слово слежалось в уголь, железную руду. Таков оказался результат ментального катаклизма — сжатия слова пустотой 1826 года.
Месторождения породы (части поэтической машины Александра Пушкина) разбросаны повсюду — чертеж утрачен. Вместо него — пустыня.
* * *
Равновесие сил, удерживающее русский «атом» в состоянии относительного покоя, обеспечено этой как раз пустыней.
Пушкин с первых дней ссылки ищет для себя пример поэта-отшельника. Первоначально это Овидий, римский ссыльный, отбывавший срок на берегу Черного моря. Затем его сменил другой образ: Иоанна Богослова на острове Патмос, пишущего последнее откровение.
Время от времени Александром овладевает соблазн юродства, хотя бы игрового. Он сыграл в самозванца, отчего не пойти в юродивые? Эти умеют (только им и дозволено) говорить в пустыне. У них слова оправданны — не извне, а изнутри, в этом случае корень «правда» имеет прямое значение: слова отмечены правдой.
Но все же образ юродивого, хоть и явившийся в работе над «Годуновым», — Иоанн Железный Колпак, Никола Солос, Николка — как пример для подражания явится Пушкину позднее. Пока, в Михайловском, он «царь», он испытал полноту существования русского самоназванного государя, осознал ответственность и риск пророчества.
Пророчество в пустыне, противопоставление ей своего «густого» слова: таково его самоощущение на рубеже 1825 и 1826 годов. Так начинается год «Пророка»: с опустошения и крайнего напряжения рисунка обстоящих Александра пространств.
Михайловское; январь, февраль, март. Что-то производится по инерции, в помещении как будто обустроенном, только все, кто ни есть в этом помещении, повернулись к нему затылком. Пушкин пишет письма, в ответ тишина — как это?
* * *
Он пишет новому царю. Отчасти по инерции: просьбы все те же. Он не столько надеется на царя, сколько на силы небесные — те, что там же, сверху, но все же повыше царя.
…Жду, чтоб Некто повернул сверху кран…
Кран на небесах все не поворачивается.