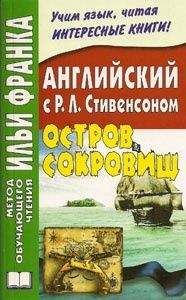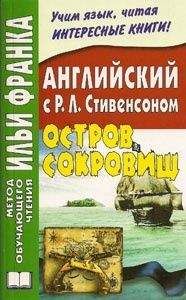Пора, пора! рога трубят… — и в самом деле, словно по его сигналу, начинается бунт в Петербурге.
Псари в охотничьих уборах
чем свет уж на конях сидят,
борзые прыгают на сворах.
Это также опыт провидения — явленного в сатире, шутке, но оттого не менее убедительного.
Что за штука — расколдовать, увидеть бумажный Петербург? Страна, обнаруженная Пушкиным в пространстве «Годунова», превосходила такой Петербург на порядок — по знаку сложности, по принципу уложения «пространства времени». Она была бездна и Тартар: над нею повисал ровною картонкой романовский, петербургский парадиз. Все что ни чертится на нем, предсказуемо, к тому же чертится повтор. Питер от основания своего только и делает, что снимает европейские кальки; в декабре 1825 года повстанцами сводилась калька республиканская (древнеримская).
Происходящее опаздывает на один темп (на пять лет): так опаздывает копия, следующая за оригиналом.
Под петербургскою картонкой течет ледяная лава. Эта цепенящая влага, стоит только надорвать бумагу, в одно мгновение выходит из-под снега, открывая настоящую, провиденную Пушкиным глубину.
* * *
Александр говорил потом, что затевал Нулина как «Нового Тарквиния», пародию на Шекспира: что бы вдруг Лукреции пришла в голову мысль дать Тарквинию пощечину? Вся история Европы пошла бы по иному сценарию.
В Петербурге его друзья готовятся произвести постановку сцены из этой как раз, европейской истории.
Александр, разыгрывая «Нулина», переставляет европейский сюжет задом наперед. В самом деле, странный, какой-то перевернутый сюжет. В Россию является русский европеец с пустейшей, нулевой фамилией: Нулин. В два приема, обернувшись новым Тарквинием, приступает он к русской Лукреции, имеющей прозвище Наталья Павловна. И получает пощечину. История России идет другим путем, противным европейскому. Разумеется, это шутка. Тем более, что еще не известно, чем обернетсянастоящее дело в Петербурге.
Но прогноз уже читается. Пощечину получит республиканский идол, петербургский романтик, не ведающий своей страны бумажный истукан.
Другое дело, что на Сенатской площади — не Нулин и не гипсовые куклы, но все его друзья; каково ему наблюдать их смертельно опасную пьесу? Пушкин терзается сердцем — смеясь. Подобное электрическое состояние делает его медиумом, которого за нервы дергают флюиды, долетающие из Петербурга. Сообщения ужасны. С мраморными лицами герои получают топором по лбу, декорации рушатся, разливается мрак.
А у Пушкина, на бледном экране страницы — Наталья Павловна: грезит, развернувши роман сентиментальный.
Хорош выходит роман.
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег идти хотел…
Вдруг колокольчик зазвенел.
Спрашивается — на что, на кого у него вышла в «Нулине» эта несколько раз перевернутая карикатура? Козел с дворовою собакой — кто тут кто?
Нет карикатуры, зато у него на столе есть предмет обоюдосторонний, двуликий — бумага с двумя лицами: там Петербург, здесь мокрая деревня. В бумаге дыра, которую своими словами проделал Пушкин. Простые, тяжелые, ясные слова. Гусь, который тяжелей Онегина. Индейки, баба и белье. Слова-предметы. Тут даже пустота — предмет.
Александр один в пустоте, в пустыне, смотрит в бумажную дыру.
С той стороны — Сенатская площадь.
* * *
Рядом с Сенатской в земле была вырыта настоящая яма. На южной стороне площади строился Исаакиевский собор. Под него был вырыт котлован, размером не менее самой площади. Мы воображаем себе восстание 1825 года в тех декорациях, что сложились к сегодняшнему дню: стоим спиной к собору, смотрим на памятник Петру, окруженный рядами восставших. Это ошибка: собора не было, был только котлован. Его кривые края, его бездонная яма, наполовину заполненная грязным снегом, были хорошо видны восставшим. Сенатская площадь с этой стороны была пуста, проваливалась до горизонта в серый цвет и ничто. На юго-восток, в Россию. Многие из участников события признавались потом, что вид ямы на месте будущего храма внушал им мысль о могиле.
Пушки нового царя выстрелили со стороны ямы.
* * *
Отказ от участия в восстании дался Пушкину очень нелегко; еще тяжелее его толкователям, для которых оправдание поэта в его колебаниях декабря 1825 года стало дело принципа. Больше всего говорят о суеверии Александра; поставлен даже памятник зайцу, что развернул поэта на дороге в Петербург и тем спас его для отечественной культуры. В самом деле, Пушкин был очень суеверен. Год, проведенный им в Михайловском, год «Годунова», полный неслучайных совпадений, явных и тайных указаний судьбы, настроил его дополнительно к осторожности в поведении при совершении всякого ответственного шага (этой осторожности впоследствии он не всегда следовал). Поэтому дурные приметы, сопровождавшие его отъезд в Петербург, несомненно, сделали свое дело. Но все же это не главное. Это, скорее, повод для отказа; сказавшись зайцем, он остался дома — также и для его защитников заяц стал героем эпизода.
Памятник зайцу в Михайловском весьма условен, точно он слеплен из папье-маше. Это свойство современных меморий: все они сделаны как будто в шутку, обезвешены и ненастоящи. В этом смысле заяц на постаменте ничем не отличается от той же «златой цепи на дубе том» — вон она, повисла на ветке, наподобие детских качелей. Дуб растет за забором у одного из домов в Михайловском, это, наверное, запасник здешнего музея. Или это липа? Не важно, дуб или липа, все одно «липа»: на дерево закинули «цепь», не иначе, в ожидании школьного утренника. Цитата из Александра Пушкина праздно болтается на ветру. Таков же и заяц: символ, штука для показа по телевизору.
Событие для него — для всех нас — уже произошло, и это событие не бунт, не демонстрации на Сенатской. Это — возвращение России из Петербурга в Москву, из государства в царство, из «полуострова» Европы — домой, на материк. Так повело страну слово, указатель которого всегда был для нее важнее доводов рассудка.