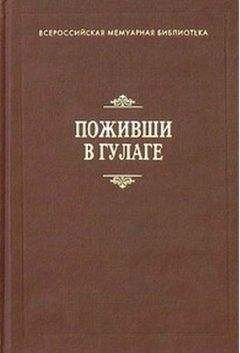В первый же вечер, когда, ожив после тряской двухнедельной дороги, зэки копошились, знакомясь с новым местом и испытывая удовольствие от передвижения в менее замкнутом пространстве, чем вагон, и толкались, будто в базарной шумной толпе, ища общения, новых знакомств и новых возможностей применения своих способностей, главным образом в присвоении чужого, я услышал вдруг:
— Эй, Лиса!
Обернувшись, я замер. На меня плотной стенкой надвигались четыре беглеца. Намерения их прочитывались на лицах. Я не сказал бы, что лица эти открыто выражали жажду мести, злобу. Скорее в них проглядывало ехидство, удовольствие от предстоящей расправы, что-то вроде кошачьего великодушия, когда домашний хищник играет с обреченной мышью. У одного из урок блеснула не то заточенная железка, не то осколок стекла.
Я вмиг оценил положение. О каком-либо сопротивлении четверым не могло быть и речи. Бежать тоже было некуда, и не только потому, что я оказался зажатым в каком-то углу и позади меня находилась глухая стенка.
И тут я вспомнил слова начальника конвоя в нашем эшелоне, а возможно, это был оперативник. Значит, он гарантировал мне безопасность только в поезде, пока сам был тут, рядом. А что в дальнейшем со мной случится, его совершенно не интересовало, хотя он не мог не понимать, что для меня это вопрос жизни и смерти. Наша жизнь просто не принималась во внимание, уж очень ее обесценили, отнимая постоянно у людей в лагерях, тюрьмах, на фронтах; люди массами гибли от эпидемий, от голода в неурожайные годы.
Мои враги двигались на меня. В висках у меня, как молоточки, пульсировала кровь, обеспечивая учащенную работу мысли в поисках выхода, в поисках спасения. Жизнь моя исчислялась секундами.
Что потом произошло, я не помню. Но я остался не только жив, но и невредим. То ли моих врагов что-то отвлекло, то ли они чего-то испугались. А возможно, это было великодушием с их стороны, возможно, они поняли, что в действительности-то я ничего не сделал такого, что бы изменило их положение к худшему. Но последняя версия отпадает, так как она пригодна для объяснения поведения только более разумных, более совершенных существ, чем рецидивисты-уголовники. Для меня более существен вопрос, почему в памяти остался провал. Или это был предел восприятия окружающей действительности, после чего, как бы переключившись на другую волну, сознание и психика уже не реагируют на внешние раздражения, а следовательно, и не фиксируют их в памяти. Я остался жив. Свершилось какое-то чудо.
Голод, вши и болезни
Три месяца мы беспробудно спали, совершенно потеряв ориентацию во времени. Ни радио, ни газет, ни часов, ни петушиного крика. Зима, дни короткие, мы их почти не видели. Для нас одинаково было, что день, что ночь. Почему-то все время хотелось спать, и мы спали, не шевелясь, до онемения, до боли в боках и скрюченных ногах. Иногда кто-то давал команду:
— Переворачиваемся!
И тогда все пятьдесят человек разом перевертывались на другой бок, иначе было нельзя: один, согнутый в другую сторону, не втиснулся бы в отведенное ему пространство.
Была и другая команда. Трудно сказать, как часто она повторялась, раз в сутки или чаще.
— Двенадцатый вагон, в столовую!
Кто командовал, оставалось неизвестным, но именно на номер своего вагона мы, спящие, реагировали, как на выстрел. Послушной толпой, как бараны, торопливо выходили из землянки. Темнота, не поймешь, вечер это, ночь или утро. Столовая была напротив. Тоже куда-то спускались по тесовым лесенкам, тесно усаживались на скамьи за дощатыми длинными столами, получали глиняные миски с баландой из мороженой непромытой картошки с крошечным листиком вонючей требухи. Ели, не разбираясь, что-то грязное, непроваренное, отвратительное по вкусу, имеющее единственное достоинство в том, что горячее. Да мы и холодное съели бы с таким же волчьим аппетитом.
Хлеб с преобладанием в нем кукурузы доставляли к нам с перебоями. Мы получали его через день, через два. Иногда не ели хлеба по три дня. Это озлобляло людей и вызывало даже явное неповиновение. Были случаи, когда надзиратели заходили в барак, давали команду:
— Поверка!
Но вместо обычной суеты и построения в две шеренги никто не трогался с места.
— Хлиба! — кричал кто-то в ответ.
И все хором подхватывали:
— Хлиба! Хлиба!
Надзиратели применяли разнообразную тактику. Видя, что барачники становятся неуправляемыми, а это в дальнейшем может привести к вовсе нежелательным для них результатам, надзиратели прибегали к методу уговора и заискивающе просили:
— Ну что вам стоит? Постройтесь, мы быстро посчитаем…
Но в ответ неслось все то же, только еще более возбужденное:
— Хлиба! Хлиба!
В какой-то момент надзиратели теряли самообладание, начинали кричать, ругаться, угрожать. И тогда разыгрывалось что-то несусветное. Тысячная толпа взрывалась. Отборная брань, свист, стук по нарам превращались в сплошной гвалт. Глиняная миска летела в сторону надзирателей и, разбиваясь вдребезги о столб, обдавала их черепками. Надзиратели отступали к выходу. Зэки, вдохновившись победой, кричали дружно:
— Хлиба! Хлиба!
Теперь миски летели одна за другой, разбиваясь, стреляя осколками.
— Хлиба! — ревела голодная толпа.
Прикрываясь, надзиратели спешно покидали барак, забыв о своей миссии — проведении очередной поверки. Зэки торжествовали.
Но голод был не единственной враждебной нам стихией. На работы нас не водили, возможно, потому, что лагерь не был обустроен. Только уже по нашем прибытии началось строительство тесового ограждения довольно обширной зоны: плотники стучали и день и ночь. Не было и уборных. С этой целью, под бдительным оком охранника с винтовкой, стоящего на крыше землянки, использовалась примыкающая к ней вплотную территория, из-за чего ближе к весне жилища наши окружили сплошные кольца замерзших нечистот.
Проблема отопления землянок решалась тоже довольно своеобразно. Как только мы приехали и стали жаловаться на холод, нам предложили под надзором охраны получить пилу, топор и валить ближайшие сосны. Однако ни одной сосны не было спилено, и вовсе не потому, что зэки так бережно относились к природе. Просто нами был найден более простой способ добывания топлива. Сначала начали обдирать крашеную и довольно художественно оформленную обшивку нар, оголяя столбы, цоколи, пояски. Потом разобрали перегородки по углам. А так как их надолго не хватило, принялись за разборку полов, обшивки стен. Еще недавно благоустроенные казармы принимали вид не то заброшенных конюшен, не то разоренных войной скотных дворов.