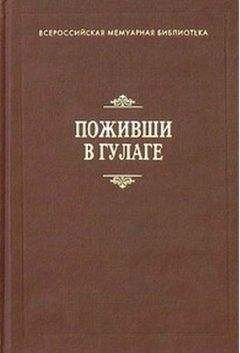Но главным бедствием оказались вши. Более двух месяцев мы не ходили в баню, не умывались, не снимали с себя телогреек и стеганых брюк, не стриглись, не обрезали ногтей, начиная походить внешне на пещерных людей. Все это при нашей скученности создало благоприятнейшую среду для размножения насекомых. Согнув ноги в коленях, мы лежали плотно, будто вложенные друг в друга; спали до тех пор, пока расплодившиеся на нас едучие звери не лишали сна. Четыре раза в сутки я выдирал свое тело из плотной массы спящих, разбуженный нестерпимым зудом. Поднимаясь, я слышал, как по моему телу, не удерживаясь на заскорузлом, залоснившемся белье, потоком сыплются вши. Достаточно было раз провести рукой по голове, чтобы все ногти были плотно заполнены этими тварями. Я раздевался и начинал бить их, сначала считая до сотни, потом просто так, без счета. Ногти больших пальцев, которыми я их давил, становились липкими. Я заметил, что зверюшки эти имеют разнообразную форму и окраску: черные, синие, красные, желтые. После проведения такой операции удавалось снова спокойно заснуть на несколько часов, после чего все неизменно повторялось. Некоторые от насекомых избавлялись проще: выйдя на мороз, снимали с себя рубашку и вытряхивали. Вши, как рассыпанный бисер, выделялись на снегу.
Еще с самого начала, как прибыли, с кем-то поменявшись местами, я устроился в группу вагона, в котором ехал Алексей. С ним вместе оказался и Иван Михайлович. На нарах мы лежали рядом все трое. У Ивана Михайловича отросла борода. Как-то он попросил нас побить расплодившихся в ней зверюшек. К сожалению, мы ничего не смогли сделать. Вши, гниды настолько густо переплелись с бородой, что образовали с ней одну сплошную, нераздираемую массу, какой-то упругий комок вроде войлока. Ее нужно было только целиком срезать каким-либо инструментом: ножницами, ножом, топором, но у нас ничего не было, и мы оказались бессильны. Наше с Алексеем счастье, что бороды у нас еще не росли.
Только в марте нас впервые повели в баню. Нас водили повагонно в город, за окраиной которого мы находились и который оказался Бийском Алтайского края. В бане стригли, брили лобки, давали величиной с две ириски кусочек черного мыла, жарили нашу одежду. Но первые помывки результатов не дали. Облегчение было кратковременным. Вши с новым ожесточением нападали на наши чистые тела, и мы снова их били, давили и вытряхивали. Кто-то принял правильное решение: вагон за вагоном беспрерывно, днем и ночью, нас гоняли мыться и прожаривали наши вещи. Тогда только стало приходить облегчение, и наконец наступило полное раскрепощение нас от надоедливых насекомых.
Но вместе со вшами пришли и болезни. За зиму довольно пространную территорию вокруг наших землянок огородили забором. Несколько поодаль от столовой организовали больничный стационар, необходимость в котором стала насущной. Сначала болезни появлялись разнообразные. Я познакомился с одним белорусом. Высокий, несколько старше меня, тихий, никого не задевающий. Даже странно, как такие люди могут попадать в заключение. Закон одинаков для всех. Справедливо ли это, если люди все разные — когда одному достаточно указательного перста, а по другому, как говорят, плачет веревка?
Как-то мы сидели с этим белорусом на нарах. Был день, но из-за заледеневших и высоко расположенных окон стоял полумрак. Он рассказывал о своей родине, о Белоруссии. И, как у всех голодных, мысли занимали воспоминания о еде, простой, повседневной, только попробовать которую было для нас теперь несбыточной мечтой. Он рассказывал, что бульба (картошка) в пищу людям у них идет не вся, срезают только верхний слой, а сердцевинку оставляют скотине. Вполне рационально. И что мать жарила ему картошку.
— А она такая червона-червона, — с удовольствием вспоминал белорус.
Потом замолчал, опустил голову, и я вдруг заметил, что со рта у него тянется тонкая ровная струйка. Я не понял сначала, что это такое, как в случайном отсвете различил красный блеск. Это текла кровь. Мне стало нестерпимо жалко этого белоруса, я понял, что он уже никогда не увидит свою родину, свою мать и червону бульбу. На следующий день его положили в стационар, и больше я его не видел.
Смерть стала посещать нас все чаще. Однажды утром, поднятые, как по тревоге, в столовую, мы удивились, что Иван Михайлович не встает и даже не слышит никаких окриков. Мы попытались растолкать его, но он оказался мертв. Значит, еще ночью я спал в обнимку с трупом. Но, пожалуй, ужаснее этого оказалось мое безразличие. Я не почувствовал ни страха, ни жалости. Тупость — это продукт неволи, производное рабства. Несколько позднее я узнал, что и к своей смерти можно относиться безучастно. Но этому предшествовала массовая гибель людей. В лагере началась дизентерия.
Эта болезнь была неизбежной. Люди не имели нормальной пищи. Голодные, они поглощали всякую дрянь. О какой-то гигиене питания не могло быть и речи. То же самое и о санитарии в быту. Ели все, что казалось съедобным.
В один из не очень морозных зимних дней, когда мы вагоном ковыляли на очередной прием пищи, к столовой подъехал грузовик с картошкой. В это время навстречу нам выходила, отобедав, другая толпа. И вдруг, неизвестно по какому сигналу, люди кинулись на машину, прямо на ходу открыли задний борт кузова, из которого со стуком посыпалась мерзлая картошка. Зэки, торопясь, расхватывали ее, засовывая за пазухи, в карманы, у кого они были, просто набирая в горсти. Откуда-то появился нарядчик Бойко, здоровый верзила, с помощниками. Палками они колотили истощавших людей, от них спасая их же дневной паек.
В другой раз, когда мы спускались в столовую, тут же, у входа, стояла машина со свежей капустой. Ее разгружали столовские придурки, которых все ненавидели из-за перепадавшей им лишней миски похлебки. Спускавшиеся по лестнице зэки, с жадностью глядя на капусту, походя умудрялись воровать ее. Мы уже сидели за столом, когда Алексей, стараясь сделать это незаметно, отогнул полу еще сохранившегося на нем домашнего полупальтишка.
— Смотри, — шепнул он мне.
И я увидел спрятанный у него вилок капусты.
— Как ты сумел? — удивился я.
Алексей только хитро улыбнулся, явно довольный своим удачным приобретением.
Из столовой мы вышли оглядываясь. Идти в барак с кочаном капусты было рискованно, его просто могли отнять у нас голодные шкодники. Было уже темно, и мы пошли с Алексеем в сторону от жилой землянки. За нами, поняв, в чем дело, и в надежде поживиться, увязался еще какой-то парнишка, от которого мы так и не смогли отделаться.
Капуста была зеленая, промерзшая, как стальная, и не поддавалась делению на листочки. Мы нашли пенек и с силой стали бросать на него кочан, стараясь разбить его. С трудом, но нам это удавалось. Мы подбирали каждый отлетевший кусочек. Несколько листков дали сопровождавшему нас парню — задобрить его, чтобы он не сказал еще кому о нашем богатстве. Тут же мы пытались грызть мерзлую капусту, но потом придумали лучше. Вернувшись в землянку, нашли глиняную миску, заложили в нее капустное крошево и сунули в печку. Капуста быстро оттаяла, нагрелась и теперь представляла вполне съедобное блюдо.