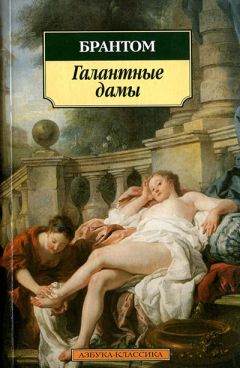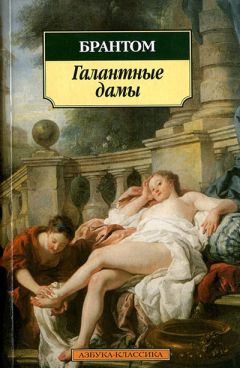Она и меня очень просила призвать — поскольку всегда называла своим драгоценным дядюшкой — и послала нам свое прощальное приветствие. Она приказала после своей смерти вскрыть тело, к чему ранее отнеслась бы с негодованием, но теперь ей хотелось, чтобы причина ее смерти была явлена близким: это могло бы охранить их жизнь и жизнь ее дочери, «ибо, — повторяла она, — надо признать, что мне подсыпали яду пять лет назад, вместе с моим дядей Брантомом и сестрой графиней де Дюрталь; но, быть может, я приняла отравы более других. Нет, я не желаю никого обвинять — боясь ошибиться и отягчить Душу ложным наветом, ибо желаю сохранить ее незапятнанной, чтобы она полетела прямо к Господу, сотворившему ее».
Я никогда не закончу, если буду рассказывать все, ибо ее рассуждения были пространны и в них ничего не позволяло заподозрить слабость тела и угасание духа. Среди прочего упомяну лишь об одном дворянине, ее соседе, большом острослове, любившем пускаться с ней в шутливые беседы. Он также явился, и она ему сказала: «Ах, друг мой! Удар, что я получила, заставляет сдать на милость победителя и язык, и клинок, и все прочее. Прощайте!»
Врач и сестры хотели заставить ее принять какое-то сердечное снадобье, но она его отвергла. «Ведь оно уже не поможет, — проговорила она, — лишь продолжит страдания и отдалит миг покоя». И просила, чтобы ее более не тревожили, несколько раз повторив: «О господи, как смерть сладка! И кто бы подумал?» А затем тихо-тихо отдала богу душу, не потревожив нас ни одним уродливым движением, никаким гнусным знаком, коим смерть обычно запечатлевает свой приход.
Госпожа де Бурдей, ее мать, не замедлила последовать за ней: потеря столь достойной дочери за полтора года свела ее в могилу; семь месяцев она проболела, пребывая в меланхолии, то обретая надежду исцелиться, то теряя ее. Но с самого начала она решила, что ей не выбраться, и не глядела с отвращением в лицо скорой гибели; никогда не молила Господа продлить ее дни и вернуть здоровье, а лишь просила ниспослать ей терпение в горестях и тихую смерть, без мучений и судорог. Так и было: мы даже решили, что она задремала, — так кротко она отошла в иной мир, не двинув ни рукой, ни ногой, не вперяя исполненного ужасом взора, не строя отвратительных гримас, но тишайше смежив очи, и осталась в смерти столь же красивой и совершенной, каковою была при жизни.
Конечно, большое несчастье умирать вот так, не дожив до преклонных лет! Но думаю, быть может, Небеса, не желая, чтобы столь чистые светильники, от сотворения мира озаряющие лучезарный свод, потратили себя здесь без остатка, и превращают их в новые звезды, чтобы те нам светили, подобно тому как наш земной путь озаряли их прекрасные глаза.
Прибавлю, впрочем, и еще кое-что.
Вы, наверное, не забыли госпожу де Баланьи, сестру нашего храброго Бюсси, во всем похожую на брата. Когда Камбре был осажден, она сделала все, что могла, дабы отвратить взятие города; но после многих стараний и благородных ухищрений, видя, что ничего не помогает — и город обречен перейти к врагу, а цитадель тоже не продержится, — не в силах вынести душевную муку и покинуть свои владения (ибо ее супруг и она именовались принцем и принцессой, владетелями Камбре и Камбрези — титулом, который среди большинства народов считается ужасно дерзким, если принять во внимание их положение простых дворян) — угасла, смертельно пораженная скорбью на поле славы. Некоторые утверждают, что она по своей воле приняла смерть, — хотя и находят подобное деяние более языческим, нежели христианским. Однако остается достойной хвалы ее благородная стойкость и примечателен тот выговор, какой она сделала супругу в час своей кончины. «Что осталось тебе, Баланьи, — молвила она, — как можно жить, претерпев столь злосчастное поражение и сделавшись посмешищем и потехой всего света, чтобы на тебя показывали пальцем, вспоминая, что бывал ты в большой славе и возвышался над многими? Ныне ожидает тебя низкий удел, если не последуешь за мною. Учись же у меня, как подобает умирать, не переживая падения и осмеяния». Знаменательно, когда женщина учит нас жить и умирать. Впрочем, он не поверил ей — и не последовал за нею: через семь или восемь месяцев, отринув воспоминания о столь доблестной супруге, он вступил в брак с сестрицей госпожи де Монсо — прекрасной собою, не спорю, и весьма добродетельной девицей; так он показал всем, что желает жить — чего бы то ему ни стоило.
Конечно, жизнь хороша и приятна; но достойна всяческих похвал и благородная возвышенная смерть, подобная той, что избрала сия особа, каковая — если принять, что она погибла от горя, — поступила против женской натуры, коей (как утверждают многие) свойственно то, что противно естеству мужчины, а именно умирать от радости и в радости.
Вспомню еще лишь одну историю, приключившуюся с мадемуазель де Лимёй-старшей, одной из фрейлин королевы, умерших при дворе. Пока она болела, ее ротик не закрывался: она непрестанно говорила, ибо была завзятой говоруньей — едкой на язык и ранящей им метко и наверняка; а к тому же — весьма хороша собой. Когда подошел ее смертный час, она призвала к себе своего лакея, — а у каждой фрейлины при дворе был свой лакей; так вот, ее лакей, прозывавшийся Жюльеном, превосходно играл на скрипке. «Жюльен, — велела она ему, — возьмите скрипку и играйте до тех пор, пока не увидите, что я уже умерла, — ибо все идет к тому. И исполняйте „Поражение швейцарцев“ с сугубым старанием, а когда дойдете до слов „все кончено“ — повторите их пять или шесть раз, и так жалостливо, как сумеете». Он так и сделал, а она подтягивала голосом; когда же дошел черед до слов «все кончено» — она повторила их дважды, а затем, повернувшись и обратившись к тем, что стояли по другую сторону изголовья, вымолвила: «Вот теперь-то и правда всему конец, да оно и к лучшему» — и с этими словами отошла. Вот веселая и радостная кончина. Рассказ о ней я слыхал от двоих ее подружек, достойных доверия и бывших свидетельницами сего действа.
Если существуют женщины, способные умереть от радости или радостно принять кончину, — немало было и мужчин, поступавших так же; например, подобное можно прочесть о великом Папе Льве, умершем от ликующего возбуждения духа, когда узнал, что французов изгнали из королевства Миланского, — настолько он нас ненавидел!
Покойный господин великий приор Лотарингский возжелал однажды послать к Леванту две свои галеры под водительством капитана Болье, одного из своих наместников, о котором я уже упоминал в ином месте. Этот капитан охотно взялся за дело, поскольку был храбр и воинствен. Когда он подплывал к архипелагу, ему встретился большой венецианский корабль, богатый и хорошо вооруженный. Он обстрелял венецианца из пушек, но тот ответил ему тем же и с первого же залпа снес две скамьи с каторжниками и убил помощника, коего звали капитаном Панье — хорошего товарища в бою и в застолье, успевшего перед смертью только пошутить, обыграв свое имя: «Хоть сам Панье не из Шампани, но шампань из Панье зато хлещет красней бордо. Так чего жалеть о пустом бурдюке, когда пролито вино». Удачное словцо скрасило его последнюю минуту. А господину Болье пришлось отступить, поскольку тот корабль оказался ему не по зубам.