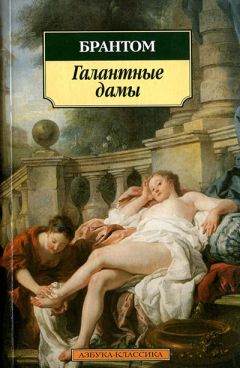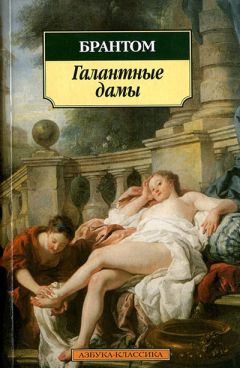А вот что произошло с госпожой герцогиней де Валентинуа: когда кончина короля Генриха казалась неминуемой и его самочувствие почти не оставляло надежд, ей передали приказ удалиться из его парижского замка, не входить более в его опочивальню. Это сделали как для того, чтобы не помешать ему обратиться к Богу, так и из-за враждебности к ней многих властительных особ. Когда же она подчинилась, у нее потребовали еще вернуть несколько перстней и драгоценных вещиц, принадлежавших короне. И тут она внезапно спросила у господина, что явился к ней с этим поручением: «Как, неужели король умер?» — «Нет еще, сударыня, — отвечал тот. — Но это не замедлит случиться». — «Пока у него осталось жизни хоть на мизинец, — сказала она, — пусть мои недруги знают, что я их не страшусь и не стану им повиноваться, пока монарх еще дышит. Мое мужество не поколеблено. А умри он — я не пожелаю его пережить; тогда, какая бы горечь ни досталась мне в удел, она покажется сладостной по сравнению с моей утратой. Так что жив король или нет — а враги мои мне не страшны».
Так эта почтенная госпожа выказала величие собственного сердца. Но рассказывают, что она не умерла, как предрекала. Хотя чувствовала много раз, как к ней подкрадывается смерть, она не пожелала ей поддаться — и продолжала жить, чтобы показать врагам свое бесстрашие. Помня, как они сгибались и ползали перед нею, она не хотела делать того же перед ними и являться им с угодливой миной из одного опасения кого бы то ни было раздражить. Случилось другое: не прошло и двух лет, как они сами нашли ее и более чем когда-либо старались завоевать ее дружбу. Я все это видел и говорю: у властителей обоего пола мало стойкости в привязанностях; они легко примиряются с теми, кто им был противен, уподобляясь мошенникам на ярмарке; так они любят, но так же и ненавидят — чего мы, малые мира сего, не можем себе позволять. Ведь нам завещано биться, мстить и умирать и — сколь бы трудным ни было положение — заключать союзы весьма щепетильно, уравновешенно и торжественно, если мы считаем, что так будет лучше.
Достоин восхищения поступок столь решительной особы; впрочем, такие, как она, радея о делах государства, всегда делают несколько больше обычных людей. Вот почему наш покойный король Генрих III и королева-мать вовсе не любили своих придворных дам, умы и языки коих были заняты тем, как шла жизнь в королевстве, и носы вострились туда же, — ибо думать о важных вещах и касаться их разрешалось лишь высокородным наследницам, как говаривали их величества, — поскольку от этого зависела их судьба; или, по меньшей мере, такие заботы пристали тем, кто, как мужчины, проливают пот и натруживают руки, чтобы поддерживать порядок; они же, удобно сидя в креслах перед горящим очагом, лежа на кушетках или на подушках, только и делали, что вели пересуды о высшем свете и французских делах, — словно от них что-то зависело. На что однажды весьма живо откликнулась одна из великосветских остроумиц (об имени коей умолчу), после того как высказала все, что имела, о первых Генеральных штатах в Блуа. Их величества прочитали ей легкую рацею, советуя обратиться лучше к домашним заботам и молитвам; она же, будучи чуть-чуть слишком бойкой на язык, отвечала: «В те поры, когда принцы, короли и великие мира сего отправлялись за море и совершали подвига на Святой земле во имя Креста Господня, нам, слабым женщинам, конечно, было позволительно лишь плакать, причитать, давать обеты и поститься, прося Всевышнего даровать им доброе путешествие и скорое возвращение; но теперь, когда мы видим, что они делают не более нас, нам не стыдно говорить обо всем: ведь о чем бы мы стали просить Господа, если в поступках своих они таковы же, как и мы?»
Слова довольно дерзкие — и стоили они ей дорого: лишь с большим трудом ей удалось получить прощение, притом — не случись некоего обстоятельства, о котором речь пойдет позже, — примирения бы не было, а наказание ее ждало весьма огорчительное и оскорбительное.
Не всегда полезно давать волю язычку, когда острое словцо само на него просится; видывал я многих, кто не умел управлять собой, — ведь злоязычные натуры столь же ретивы и брыкливы, как арабский скакун; и если засвербит у них во рту от колючей шуточки — они уж ее выплюнут, не проглотят и не пожалеют ни родных, ни друзей, ни знатных вельмож. При нашем дворе встречалось много светских персон с таким расположением духа, их даже прозвали Маркиз (или Маркиза) Сладкоуст, хотя держались при них настороже.
Теперь же, описав благородство некоторых досточтимых особ при жизни, пора коснуться и того, как прекрасно вели себя другие на пороге могилы. Не вдаваясь в дебри давно минувших времен, приведу лишь случай с госпожой регентшей, матерью великого нашего короля Франциска. В свое время — как я видел и слышал — это была как нельзя более миловидная принцесса, притом весьма светская, даже в преклонных своих годах. И терпеть не могла, когда при ней заговаривали о смерти, даже если то оказывался священник, читающий проповедь. «Как если бы, — говаривала она, — им не достаточно известно, что все мы однажды умрем; такие проповедники заводят об этом речь, когда не знают, о чем еще говорить, — словно школьники, не вызубрившие до конца урок, — и, как люди несведущие, суются в царство смерти, о котором не ведают». Кстати, покойная королева Наваррская, ее дочь, не более матери любила, когда заводили подобные песни и угрожали неотвратимой погибелью.
Когда же и ей настала пора умирать, покоясь в постели за три дня до кончины, она вдруг увидела, что спальня ее наполнилась светом, словно брызнувшим в окна. Она стала бранить служанок, зачем развели такой жаркий и яркий огонь. Они же отвечали, что угли едва тлеют; это лунный свет озарил все вокруг. «Не может того быть, — возразила она. — Ныне луна на ущербе — и в этот час не способна так сиять». Внезапно она велела отдернуть занавеси — и все заметили комету, свет от которой падал прямо на кровать. «Ха! — воскликнула она. — Вот предзнаменование, какого не дождаться низкорожденным. Лишь нам, великим мира сего, Господь ниспосылает такие знаки. Закройте окно: эта комета предсказывает мне скорую смерть. Надобно подготовиться». На следующее утро она послала за своим исповедником и исполнила все, что должна сделать добрая христианка, хотя врачи уверяли, что дела ее далеко не так плохи. «Если бы я сама не видала предвестия своей смерти, — отвечала она, — я бы тоже не поверила, ибо не чувствую себя достаточно плохо». И поведала им о мрачном предзнаменовании. Не прошло и трех дней, как она покинула этот бренный мир и предстала перед Всевышним.
Не могу поверить, чтобы знатные особы — притом недурные собой, юные и благородные — имели бы меньше причин печалиться, переходя из суетного нашего мира в вечный, нежели прочие; но при всем том я мог бы назвать не одну, бестрепетно взглянувшую в лицо смерти — подчас по собственной воле, хотя сначала сама мысль о ней казалась им горькой и отвратительной.