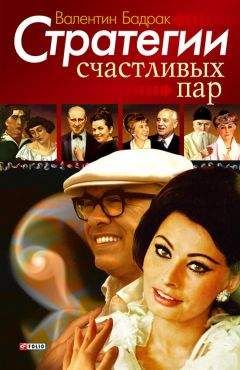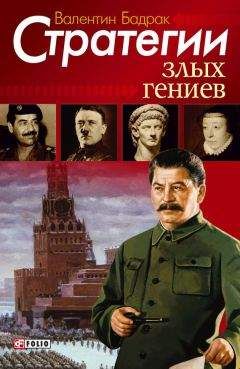Такой подход к оценке деятельности поэтессы, а также ее известность далеко за пределами литературного и романтико-поэтического мира являются для автора основанием, чтобы отнести ее к числу неординарных женщин. Возможно, в отношении Цветаевой с точки зрения психосинтеза справедливо говорить о переоценке любви, но мерилом признания объективно являются не психоаналитические отметки и медицинские диагнозы, а реальная популярность имени и оставленных после себя материализованных следов пребывания в этом мире. Не кривя душой, можно признать: редкий и оригинальный талант поэтессы оценен достаточно высоко, о чем свидетельствуют приличные тиражи не только сборников стихов, но и ее биографических исследований, многочисленных публикаций в газетах и журналах. Она сотворила или, скорее, возвратила символ парящей в пространстве вечной любви, извечное стремление женщины любить и быть любимой.
Любопытно, что при всей своей окрыленности и воздушности, жизни «вне времени и пространства», при всей трагичности, мятежности и противоречивости духа Марина Цветаева продемонстрировала завидную системность и последовательность в жизненной линии, в ненасытной жажде прогреметь во времени и пространстве мощным раскатом грома, сверкнуть фейерверком искрометной молнии, прежде чем кануть в Лету. Именно эти качества и своеобразные усилия вписываются в исследование о стратегиях, о внутреннем стержне человека, порою гибком и гнущемся, но не ломком и всегда возвращающем путника к однажды избранной цели.
Ключевыми моментами раннего детства Марины Цветаевой оказались ощущения разочарования и обмана ожиданий. Мать, витающая в облаках романтическая натура, мечтала о сыне и даже выбрала ему имя, но неожиданно родилась дочь. Мир не ждал ее, и появившееся на свет крохотное существо сразу остро почувствовало это.
Хотя родительский дом и был царством музыки и поэзии, в нем сформировалась противоречивая атмосфера. Кроме старшей Марины и родившейся два года спустя младшей сестры, в доме росли дети Ивана Цветаева от первого брака – Валерия и Андрей. Сама Валерия позже для обозначения отношений с мачехой выбрала слово «отчуждение». По всей видимости, у второй жены Цветаева, Марии Мейн, был непростой и нелегкий для окружающих нрав, потому что даже ее родные дочери несли на себе суровую печать ее непреклонности. Но эта непреклонность и незыблемость материнского авторитарно-авторитетного положения совсем не означали отсутствия любви. Напротив, мать любила неотвратимой, какой-то неотступной любовью, насыщая мир таким богатым спектром эмоций, что дети были обречены на особую чувствительность, специфическое восприятие и на извечное противоречие с прагматическим и практическим подходом к жизни. Музыка и лирика стали основой детских впечатлений Марины, а заодно и несколько надуманного отчаяния и тоски. «Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики…», «Мать залила нас музыкой», – писала взрослая Цветаева, добавляя самое существенное: «Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью второго рождения». Марина после рождения сестры оказалась гораздо ближе к внутреннему миру матери, хотя и отдалилась от нее. Отдалилась, потому что испытала на себе всю суровую неотвратимость материнских решений, самым щемящим из которых было ее навязчивое желание сделать из дочери пианистку. Младшая Ася больше болела, поэтому меньше подвергалась муштре. Марина прониклась мыслью, что она менее любима, а кроме того, на нее легло основное бремя ответственности за стремление матери сделать из дочери то, что не сумела сделать из себя. Ведь именно на старшую, рано повзрослевшую Марину обрушился основной поток изощренных материнских приемов того короткого периода материнской миссии, когда она еще не была смертельно больной и полностью отдавала себя воспитанию. Через первую дочь перекатилась лавина ее противоречивых чувств и ощущений, сформировав такую же нечеловечески обостренную восприимчивость. Ко времени более длительного взросления второй дочери, которую словно оберегали от становления и старались не пускать во взрослый мир, Мария Мейн истощилась и уже была смертельно больна. Как рыба, выброшенная штормом на берег и хватающая ртом воздух от безысходности, она теперь пыталась насладиться последними радостями земного бытия и сосредоточиться на собственных впечатлениях. Воспитание дочерей продолжалось, но ушло на второй план. К этому времени все большая ответственность возлагалась на гувернанток и нанимаемых преподавателей, и в этом определенное объяснение фундаментальных различий в восприятии мироздания двумя сестрами. Младшую удалось сохранить «хорошей» девочкой, старшая сумела стать «плохой». С детства в ней, по воспоминаниям сестры, странным образом уживалось хорошее и дурное, «со страстью к чему-то и в непомерной гордости она легко и пылко делала зло». Зарождался могущественный эгоцентризм, доминирующий над всей личностью: ей необходимо было тестировать свои и чужие ощущения, и тут критерии определенных обществом рамок допустимого должны были презираться и ломаться без оглядки и сомнения. Только так, презирая все догмы, рождаются сильные личности. Но этим же своим качеством они ненавистны окружающим. Растущая на свободе девочка понимала это интуитивно, в ней уже поселились неистребимые импульсы независимости, и никакие сказки о правилах поведения благовоспитанных барышень не могли быть уместными для мозга, питающегося кислородом свободы.
Тем не менее, роль матери не ограничилась насыщением дочерей знаниями о великой и трогательной, а порой и трагической красоте всепроникающей лирики и всепоглощающей музыки. Важным представляется замечание биографа Цветаевой Виктории Швейцер – о необъятной внутренней свободе матери поэтессы. Дело не в отсутствии семейной идиллии, а в трактовке Марией Мейн женской роли и положения женщины в мироукладе. При спокойном, покладистом и без остатка захваченном своим делом Иване Цветаеве молодая жена, которая была младше его на двадцать один год, имела «серьезные увлечения». Этот нюанс представляется довольно важным для формирования жизненных принципов дочерей, потому что именно отсюда проистекает та внутренняя раскованность (и в том числе в любви и в сексуальной сфере), которые порой так шокировали современников. И именно тут следует искать корни кажущейся безумной откровенности и обнажения самых сокровенных струн души в своих стихах, которые, собственно, и сделали Марину Цветаеву известным и самобытным лириком. Это то, что стало ее поэтическим «лицом», и взято это было от матери, которая не позволила своей индивидуальности раствориться и успела внушить этот краеугольный принцип своим детям. Впрочем, была, конечно, и оборотная сторона свободы: обе девочки вышли замуж в незрелом для брака возрасте и почти сразу же вкусили противоречивого кисло-сладкого сока материнства. Кстати, в семейном укладе Цветаевых присутствовал еще один важный фактор: Марина подсознательно искала такого же по складу характера мужчину, каким был Иван Цветаев. И похоже, ей это удалось, ибо Сергей Эфрон так же, как и ее отец, устранялся от жестких форм влияния на свою жену и, будучи мягким, спокойным и взвешенным в жизни, прощал жене ее бесконечные влюбленности и романы.