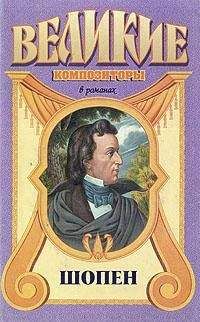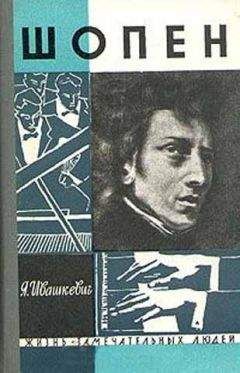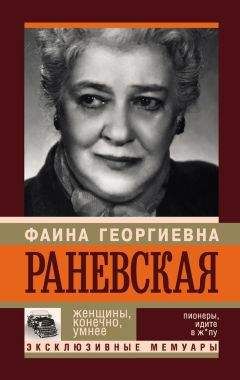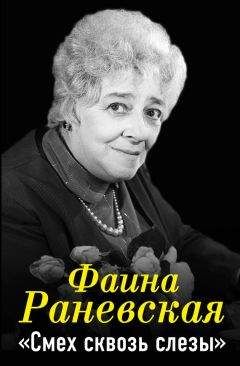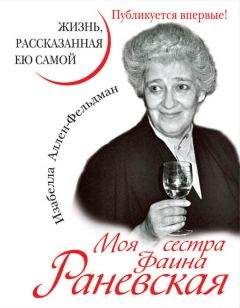Впрочем, он скоро забыл о ней. Он согласился играть главным образом для Гейне, которым давно восхищался. Он знал, что Гейне нравится его музыка, и гордился этим.
Гейне любил музыку до самозабвения. Он даже навлекал на себя насмешки своим сомнамбулическим видом во время концертов. Казалось, он спит. Закинутая назад голова довершала это впечатление. Но вот эта голова с закрытыми глазами начинала покачиваться из стороны в сторону, а на губах показывалась счастливая улыбка, совсем не похожая на ту язвительную усмешку, которую все знали. Гейне говорил, что музыка разоружает его, что, слушая ее, он становится добрым, всепрощающим, а это не годится. Но он не может заставить себя отказаться от музыки – это единственное, что примиряет его с жизнью.
Любовь к музыке заставляла его ненавидеть парижских виртуозов, профанирующих ее. Много язвительных строк посвятил он их нашествиям, которые он сравнивал с эпидемиями страшной болезни. Не только шарлатаны или посредственные музыканты вызывали его справедливый гнев, он не всегда приветствовал и тех, кто пользовался заслуженным успехом; он был слишком требователен. Так, он не выносил Калькбреннера, холодные похвалы Гейне по адресу Тальберга никто не решался передавать самому пианисту. Даже Лист, исполнением которого он восхищался, не уберегся от насмешек Гейне. Был только один музыкант в Париже, которого Гейне предпочитал всем другим, которого он называл Рафаэлем фортепиано, – это Шопен. Может быть, из всех жителей Парижа Гейне был единственный, который до конца понимал Шопена. Когда его спрашивали: – Не правда ли, как дивно играет Шопен? – он отвечал: – Не знаю. Слушая его, я совсем забываю о мастерстве его игры, я погружаюсь в бездны его музыки. – Ив статьях он писал о Шопене как о великом, гениальном композиторе, имя которого должно стоять рядом с Моцартом и Бетховеном.
Пытаясь описать музыку Шопена, «томительную прелесть его произведений», Гейне не всегда был доволен этими попытками. Описавший так поэтично и точно музыку Паганини, он затруднялся в выборе слов для характеристики Шопена. «Русалки, эльфы и феи», которых он привлек однажды для подобной характеристики, не удовлетворили его. Ведь и у Шуберта, и у Шумана, и у Мендельсона встречаются эти эльфы и русалки! Но как определить Шопена? И когда кто-нибудь говорил, что в музыке Шопена – польское благородство, французское изящество, итальянская певучесть и немецкая серьезность, Гейне отвечал:
– Конечно, музыкологи это прекрасно докажут, да я и сам такого же мнения, но когда все это вместе взятое начинает на меня действовать, я думаю: теперь он уже не поляк, не француз, не немец, а житель той страны, которая называется царством поэзии! – А что такое поэзия? – спрашивал иногда собеседник– такие вопросы часто задавались. Гейне отвечал:– Этого никто не знает, но зато многие чувствуют!
…Очнувшись от грез, навеянных звуками, он обводил сидящих вокруг людей затуманенным, виноватым взглядом – так смотрят люди, снявшие очки. И на вопрос соседа, отчего он не выскажет своего мнения, когда вокруг струится столько похвал, отвечал с серьезным видом:
– Прекрасна та музыка, которая делает нас немыми!
– …Отчего бы нам не собираться чаще? – спросил Гиллер, когда Шопен кончил играть. – Люди тратят время бог знает на какие пустяки и не пытаются устроить жизнь по своему вкусу. Такой вечер, как сегодня, – это, по-моему, подарок судьбы. Так почему же не принять его снова из ее прекрасных рук?
Все согласились, что хорошо было бы в ближайшее время опять собраться. Гости окружили Шопена. Жорж Санд стояла в отдалении и тоже улыбалась, но какой-то принужденной, вымученной улыбкой.
Позднее, прощаясь, Лист спросил, как ей понравился Шопен.
– О, это небожитель! – сказала она. – На земле таких людей нет!
– Ну, может быть, еще один найдется!
– Нет, Франсуа! Вы тоже гениальный музыкант, но в вас нет цельности. Вы скорее сплав из разнородных металлов!
– Благодарю, хоть и не знаю, комплимент ли это или порицание!
– Я знаю много легенд, – начала она снова, – в которых волшебницы любят простых смертных и даже иногда – или всегда? – жертвуют ради них бессмертием. Но я не знаю сказки, где бы земная женщина… – она запнулась.
– Полюбила бы духа? Сколько угодно! Вы должны знать их лучше, чем я.
Он уважал ее, но иногда и подсмеивался над нею.
– А это правда, что он женится? – спросила она.
– Совершенная правда. Его невеста – очаровательная девушка семнадцати лет, польская аристократка. Это подруга детства или что-то в этом роде…
– …Какой теплый вечер! Зима, а совсем тепло!
– Да. Но это обманчивая погода…
– Друг мой, вы видите меня в минуту слабости, – сказала Жорж Санд, – я совершенно разбита.
Она прижала платок к губам.
– Люди знают счастье, а для меня оно все еще закрыто… Господин Дюдеван снова затевает процесс, и, кажется, очень мучительный для меня. Я не боюсь, я защищу себя, но я очень устала.
– Чего же он от вас хочет?
– Не знаю. Должно быть, денег. Ему мало того, что он имеет. Он способен похитить кого-нибудь из детей, он уже пробовал это. Впрочем, я сказала вам, что не боюсь. Это не страх, а отвращение. Отвращение к Парижу, к пошлым людям, к грубости, к торгашеству. Я уехала бы отсюда, уехала бы подальше. Так хочется покоя, чистоты… Одним словом, я вам сказала: у меня минута слабости.
– Это меня не пугает, – сказал Лист, – это верный признак того, что вы набираете силы.
Аврора Дюдеван помнила себя чуть ли не с трех лет, и в ее памяти сохранились столкновения, бурные споры и ссоры окружавших ее людей. Причиной и жертвой этих столкновений была она сама. Из-за нее враждовали две любящие женщины – высокопоставленная, чувствительная и тонко образованная бабушка – и малограмотная, вульгарная, развращенная мать, «дитя Киприды», которая менее всего годилась в воспитательницы своего ребенка. Обе женщины ненавидели друг друга со страстью, равной их привязанности к маленькой Авроре. Девочка знала, что является предметом распри и непримиримой вражды. Разумная бабушка была ласкова, окружала Аврору богатством, даже роскошью в своем родовом поместье Ногане; мать Авроры жила довольно бедно, вела беспорядочный образ жизни и, кроме того, была криклива, несдержанна, нередко ссорилась и даже дралась с соседями и родственниками. Она не могла воспитать Аврору, – как того требовало происхождение дочери (предками которой по отцу были графы и даже короли), и вынуждена была оставить ее в Ногане, у бабушки. Но Аврора томилась в поместье и страдала от разлуки с матерью, которую знала плохо. Она рвалась в Париж, к матери, и в конце концов поселилась у нее. Только после этого, горько раскаявшись, она оценила свою бабушку, которая к тому времени уже умерла.