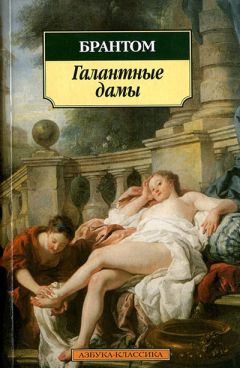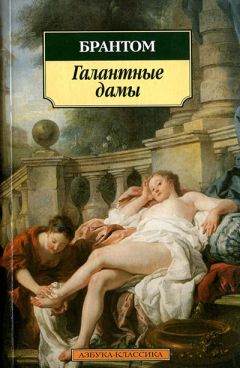Некие философы, как я слышал, полагают, будто люди нередко вспоминают перед кончиной о том, что они больше всего любили; дворяне, воины, охотники, ремесленники — короче, все, кто чем-либо занимался при жизни, не забывают об этом и в последний час не прочь замолвить словечко о своих прошлых делах; такое мы часто видим.
Женщины тоже, не обинуясь, вспоминают о былом — даже потаскухи; так, слыхал я о бесстрашной особе, каковая перед смертью горделиво перечисляла возлюбленных, былые проказы и канувшие в прошлое удовольствия; притом нарассказала более того, что все о ней знали, хотя и подозревали в ней лихую распутницу. О подобном обычно заговаривают в бреду либо желая очистить совесть от тяготивших ее воспоминаний; и верно, она произнесла свою исповедь в здравом рассудке и твердом намерении покаяться, не забыв никакой подробности и описав все яснее ясного. «Вот уж действительно, — сказал кто-то потом, — отрадно напоследок очистить совесть, выметя сор поганой метлой и не упустив ни пылинки!»
Мне рассказывали об одной особе, весьма склонной грезить и мечтать ночи напролет, сквозь сон проговариваясь обо всем, чем она занималась днем, и оскандалившейся перед мужем, которому таким образом стали известны ее тайные мечтания (отчего ей потом отнюдь не поздоровилось).
Не так давно некий дворянин, причастный высшему свету и живший в провинции, коей не стану называть, умирая, проделал то же самое: поведал о своих любовных похождениях и проказах, перечислив дам и девиц, с коими был связан, и места свиданий, и каким манером все происходило; вот так он исповедовался перед Всевышним, прося прощения у него и у всего света. Этот человек поступил хуже, чем та женщина, о коей только что говорилось, поскольку она навлекла порицание только на себя, а указанный дворянин — на многих своих пассий. Вот и доверяй после этого дамским угодникам и прожигательницам жизни!
Поговаривают, что люди, снедаемые скупостью, перед смертью впадают в сходное расположение духа — что женщины, что мужчины — и не устают поминать, сколько прикоплено ими драгоценностей и денег. Лет сорок тому назад жила некая госпожа де Мортемар — одна из самых богатых в Пуату, и притом чрезвычайно добычливая; так вот, собираясь отдать богу душу, она не помышляла ни о чем, кроме своих экю, схороненных в особом кабинете, и, несмотря на болезнь, раз по двадцать в день поднималась и шла проверять, все ли сокровища на месте. Наконец час пробил — и священник уже стал призывать ее обратить свой взор к жизни вечной; но она не думала ни о чем ином и все твердила: «Платье мне! Платье! Пойду посмотрю, как бы мои злодеи меня не обобрали!» — помышляя лишь о том, чтобы одеться и отправиться в свой кабинет. Так эта добрая женщина силилась, силилась встать, но тщетно — и умерла.
Вижу, что несколько заплутал к концу моего рассуждения — ведь исходил я первоначально от вещей возвышенных, но сбился с дороги; однако прошу не забывать, что после поучения да трагедии приходит черед и фарсу. На том и кончаю.
РАССУЖДЕНИЕ ШЕСТОЕ:
О том, как опасно плохо говорить о дамах и что из-за этого может случиться
Хорошо бы не забывать, что даже когда занимающиеся любовью дамы отдаются страсти без остатка, они ни от кого не желают выслушивать оскорбительные или неприятные речи, и тот, кто не усвоил этого — рано или поздно, — может быть хорошенько наказан. Короче, они не прочь побаловаться — но так, чтобы никто о сем не говорил. Несомненно, не дело порочить добропорядочную женщину или же раскрывать ее секреты: что поделаешь, если множество очаровательных созданий не вполне довольны своими избранниками?
Часто — и даже в самое последнее время — при дворах знатных французских сеньоров и королей любили перемывать косточки сих благороднейших особ. Я не встречал светских угодников, кои бы не нашли, что сказать о них иногда лживого, а подчас и истинного. Но должно всячески порицать такой обычай: нельзя покушаться на доброе имя дам, особливо из высшего общества. Причем я имею в виду как тех, что не прочь поразвлечься, так и иных, кои к столь пагубному зелью питают отвращение и пригубливать его не намерены.
Как я уже сказал, при дворах последних наших королей процветали тайное злоречие и пасквили, что вовсе не согласно с простодушными обычаями предков, например доброго нашего монарха Людовика XI, уважавшего простоту нравов и — как передавали — любившего трапезовать в обширных залах, пригласив к столу множество достойных людей (как приближенных к нему, так и прочих), а самые ловкие, бойкие и неутомимые в любовных забавах с нашими прелестницами там были привечаемы особо. Он и сам не отказывался подавать в этом пример, желая все познать и поделиться своими откровениями с кем ни попадя. А это, что ни говори, большое непотребство. О женщинах он был весьма дурного мнения и не верил ни в чью непорочность. Когда он пригласил короля Англии приехать к нему в Париж и пировать вместе, он был пойман на слове, но тотчас раскаялся, и нашел достойное alibi, чтобы сорвать эту затею. «Ох, клянусь Небесами, — бурчал он, — что-то мне расхотелось видеть его здесь, ведь обязательно найдется какая-нибудь ловкая, прожженная тварь и привяжет его к своей юбчонке, приохотив к здешней жизни, — и он станет наведываться сюда чаще и бывать дольше, нежели мне угодно».
Но о собственной своей супруге он был чрезвычайно высокого мнения, ценя ее благоразумие и добродетель, — и благо ей, ибо, будучи от природы нрава подозрительного и угрюмого, он бы не смог сдержаться и стал бы поносить ее, как и прочих. Когда же он умирал, то приказал своему сыну любить и весьма почитать матушку, однако не давать ей брать верх над собой: «…Но не потому, что она недостаточно благоразумна и целомудренна, а из-за того, что в ней более бургундской, нежели французской крови». И в силу тех же причин король никогда не любил ее, озаботясь лишь о законном потомстве, а добившись сего, вовсе оставил об ней попечение. А держал ее затем в замке Амбуаз как простую придворную даму, уделив ей крайне скудное содержание, принуждая носить небогатые наряды, словно какую-нибудь фрейлину. Он оставил при ней очень небольшой двор и велел проводить время в молитвах, а сам загулял и весело прожигал свои дни. Можете сами представить, как плохо — при столь малом почтении к нежному полу — высказывался о нем сей государь, да и не он один: имена известных ему особ кочевали при дворе из уст в уста, и не потому, что он порицал любовные ристалища либо хотел покарать самых рьяных и неистовых; но излюбленнейшим его удовольствием оставалось лить на них словесные помои, а оттого бедняжки не всегда могли так свободно (как им было по нраву) взбрыкивать и пускаться в амурный галоп. В его правление непотребству не было положено предела, ибо сам король и его придворные весьма способствовали развращению нравов и тягались в этом друг с дружкой и бахвалились, смеясь — при людях или келейно, — и пускались наперегонки: кто измыслит наискабрезнейшую историю о своих похождениях, постельных ухищрениях (так говорят) и прочих разгильдяйствах. Конечно, сильных мира оставляли в покое — о них судили лишь по видимости и по тому, как они держались прилюдно; думаю, что им было гораздо легче жить, нежели большинству тех, кому выпало обретаться при последнем нашем покойном короле, который, как я помню, держал их в строгости, отчитывал и укрощал, а подчас пречувствительно наказывал. А о Людовике XI я слыхал именно то, о чем поведал.