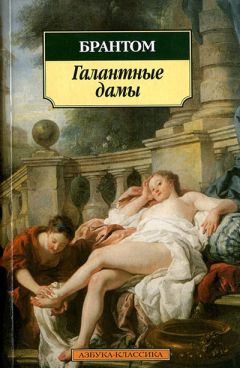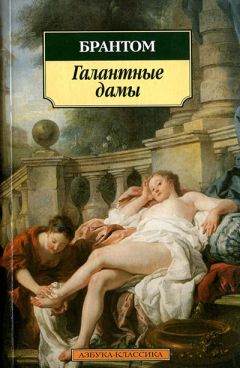А незадолго до того, когда Папа Павел Фарнезе прибыл в Ниццу и король со всем придворным штатом навестил его там, среди его приближенных нашлось немало отменно миловидных особ, возжелавших облобызать папскую туфлю. Тут-то один дворянин принялся разглагольствовать, что, мол, они хотят испросить позволения есть постное мясо, без ущерба для своего достоинства, каждый раз, как им это взбредет в голову. Король узнал о сем — и благо было, что дворянин тот (подобно первому) дал стрекача, не то висеть бы ему на перекладине — как в знак монаршего почтения к Папе, так и из-за исповедуемого Франциском уважения к слабому полу.
Поистине в своих вольных речах эти достопочтенные весельчаки были не так удачливы, как покойный господин д’Олбани. Когда Папа Климент явился в Марсель благословить брак своей племянницы с герцогом Орлеанcким, там оказались три уважаемые и пригожие собою вдовицы, каковые — от горестей, забот и мучений, переносимых из-за того, что были лишены мужниных ласк, — чувствовали в себе такой упадок сил, немощь и болезненное расположение, что попросили д’Олбани (приходившегося им родней, да к тому ж оказавшегося в немалой милости у Папы) попросить у того снять с них запрет есть мясо в три постных дня. Герцог д’Олбани любезно согласился — и однажды попросту привел их с собой в папские покои, для чего сначала предупредил короля, который выдал им пропуск. Там, распахнув створки двери, за которой находились все три коленопреклоненные вдовицы, обратившие молитвенные взоры к верховному понтифику, герцог начал первый, проговорив довольно тихо по-итальянски — так, что они его не могли услышать: «Святой отец, вот три страдалицы-вдовицы, прекрасные и весьма добропорядочные особы, как вы успели заметить, каковые в знак верности и почтения к своим погибшим мужьям и рожденным от них детям ни за что на свете не желают вступать вторично в брак (дабы не уронить чести оных супругов и не навредить малым чадам), но, поскольку иногда их мучит плотское томление, они нижайше просят Ваше Святейшество разрешить им близость с мужчинами без брака, если когда-нибудь подобное искусительное желание их настигнет». — «Что вы говорите, кузен! — воскликнул Папа. — Это было бы противно заветам Всевышнего — и я не могу дать такого позволения». — «Они перед вами, Ваше Святейшество, прошу, соблаговолите их выслушать». Тут одна из троих, взяв слово, сказала: «Пресвятой отец, мы просили господина д’Олбани изложить вам нашу нижайшую просьбу и принять во внимание слабость и хрупкость нашего здоровья и сложения». — «Дочери мои, — ответствовал Папа, — ваша просьба совершенно ни с чем не сообразна, ибо противоречит велениям Господа». Названные вдовицы, не зная, о чем ему говорил герцог, откликнулись с тем же смирением: «Ваше Святейшество, по меньшей мере, дайте нам отпущение хотя бы на три дня в неделю и позвольте нам делать это без лишнего шума». — «Как! — снова воскликнул Папа. — Дозволить вам совершать il peccato di lussuria! [63]Да я буду проклят, если соглашусь». Тут упомянутые дамы догадались, что стали жертвой какой-то шутливой проделки и здесь не может не быть замешан их родственник-герцог. «Мы о сем не просим, — запричитали они. — Лишь умоляем разрешить нам есть мясо в постные дни». На то герцог д’Олбани сказал: «Я думал, что дело у вас шло о причащении плоти живой, а не убитой». Папа тотчас распознал подвох и с улыбкой произнес: «Мой кузен, вы заставили покраснеть столь почтенных дам; королева разгневается, если об этом узнает». Та действительно узнала, но не стала чиниться и нашла историю забавной; так же порешил и король; он потом долго над ней смеялся вместе с Папой, который, благословив, отпустил бедняжек, позволив им то, о чем они просили, к их совершенному удовольствию.
Мне сообщили их имена: то были госпожа де Шатобриан (или же госпожа де Канапль), госпожа де Шатийон и вдова бальи из Кана — все три весьма достойные особы. А поведали мне о сем наши придворные старожилы.
А госпожа д’Юзес поступила лучше; в то время, когда Папа Павел III посетил Ниццу, чтобы повидаться с королем Франциском, она была еще госпожой Дю Белле и с ранней юности обладала весьма привлекательной внешностью и острым язычком. Однажды она явилась пред очи Его Святейшества — и, простершись перед ним, стала умолять о трех вещах: прежде всего, об отпущении греха: будучи маленькой девочкой, фрейлиной госпожи регентши (тогда ее еще звали девицей Таллар), она, вышивая, потеряла ножницы и поклялась принести обет святому Алливерготу, если их найдет, а отыскав, не исполнила сего намерения, поскольку не смогла узнать, где покоятся его святые мощи. Второй оказалась просьба о прощении дерзости: когда Папа Климент прибыл в Марсель, она — все еще оставаясь девицей Таллар — взяла одну из подушек на его спальном ложе и подтерла ею себе перед и зад (а потом Его Святейшество покоил на этой подушке достойнейшую главу и лицо, а также рот, который касался того места на подушке). Наконец, третья просьба: отлучить от Церкви господина де Тэ, поскольку она его любила, а он ее нет, а значит, проклят, ибо тот, кто не любит, будучи сам любим, — достоин отлучения.
Папа, удивленный, осведомился у короля, кто сия особа, и, узнав, что она записная шутница, вовсю посмеялся вместе с королем. Меня не удивило, что она потом стала гугеноткой и от души издевалась над папами, поскольку начала-то она с юных лет; впрочем, и в те поры все в ней пленяло, ибо и черты ее, и речи сохранили былое изящество.
Однако же не надо думать, что великий тот монарх так чопорно и ханжески был нетерпим ко всему, что касалось женщин, и не любил про них хорошие истории; он с удовольствием выслушивал таковые — если в них не было ничего задевающего честь или доброе имя — и даже сам мог поведать что-нибудь подобное; но при всем том, оставаясь королем и пользуясь этой привилегией, не желал, чтобы каждый встречный или человек низкого звания оказался в сем случае на равной с ним ноге.
Говорили мне, что он очень хотел, чтобы все благородные сеньоры при его дворе имели бы возлюбленных, а если они от того уклонялись, считал их людьми пустыми и глупыми; часто он выпытывал у них имена его или ее обоюдной симпатии, обещая свою помощь и благодеяния, — так он был добр и отзывчив душой! А нередко, заметив, что кто-то в сильном раздоре со своей милой, он обращался к ним, спрашивая, что хорошего они сказали возлюбленной; а найдя их слова недостаточно ловкими или любезными, советовал пустить в ход другие, понежнее. А с самыми приближенными не кичился и не скупился, одаряя разными историями и выдумками, одну из коих — притом презабавную — пересказали и мне. В ней шла речь о молодой привлекательной особе, приехавшей ко двору, каковая, не блистая тонкостью ума, легко поддалась улещиваниям больших вельмож, а особо самого короля, который, пожелав однажды водрузить свой «стяг на крепком древке» в ее «цитадели», прямо сказал ей об этом; она же, прослышав от иных, что, когда что-то даешь королю или берешь у него, надо сперва поцеловать это — или же руку, которая этого коснется или пожмет, — не растерялась, а, смиреннейше поцеловав руку, взяла королевский «стяг» и нижайше водрузила его в «крепость», а затем прехладнокровно вопросила, хочет ли он, чтобы она услужила ему как добропорядочная и целомудренная женщина или же — как распутница. Не надо сомневаться, что он захотел «распутницу» — поскольку с нею приятнее, чем со скромницей, — и тотчас убедился, что она не теряла время зря: и умела и «до», и «после», и все, что душе угодно; а затем отвесила ему глубочайший поклон и, всепокорнейше поблагодарив за оказанную честь, коей она недостойна, стала тотчас (а также и потом) просить о каком-нибудь продвижении для ее супруга. Я слышал имя этой дамы, каковая впоследствии не вела себя столь наивно, как ранее, но ловко и хитро. Однако король не отказал себе в прихоти поведать сию историю, и слышало ее немало ушей.