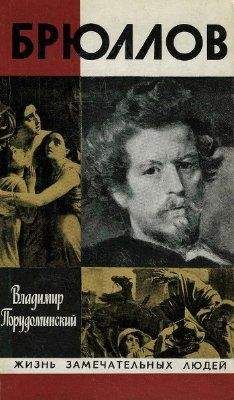Поддерживаемый учениками, Брюллов спускается из спальни в мастерскую, осторожно, как в воду, чтобы не растревожить покрывшие его тело язвы, погружается в кресло, бросает быстрый взгляд на реку и, отвернувшись, обводит глазами границу нынешнего его мира, огороженного стенами мастерской. Он вспоминает портреты, давным-давно начатые и оставленные без окончания, просит учеников разыскать их в грудах холстов и поставить перед ним, вся его жизнь каруселью крутится в памяти. Крылов, покойник, с ненаписанной рукой. Струговщиков, которому всегда некогда, если Карл просит его посидеть, и непременно хочется позировать, когда у Карла нет настроения писать. Жуковский, так и не затребованный высочайшими покупателями. На холсте со святым Иеронимом — этюд снятой с Глинки гипсовой маски и написанный по ней набросок его профиля. Один за другим, как видения прошлого, встают перед ним холсты. Какая чепуха, какая бессмыслица, думает Карл, кого только не писал, а Глинку не написал, Пушкина не написал… Женщина у фортепьяно, на инструменте — букетик ландышей, — где она, неверная супруга? Говорили, будто путешествует по Европе, берет уроки у Шопена, пользуется вниманием Шумана и Листа… Ученик смахнул пыль с холста, и Карл увидел себя, юного, в лодке, вместе с прекрасной дамой — довольно, довольно, слишком далеко, слишком долгая жизнь! Он пророчил себе сорок лет и вот целое десятилетие украл у вечности. Опускает голову, задумавшись, — черты лица заострены, удлинены отросшей бородкой, шея утончена, бледная кожа обтягивает скулы, лоб. Огромный портрет Юлии, убегающей с маскарада жизни, высится над всем в мастерской. Юлия опять свободна и одинока; ее тенор, слабогрудый и возвышенный провинциальный юнец, не выдержал и нескольких месяцев рядом с нею в этой стремительно летящей по городам и странам коляске, она оплакала его и торжественно накрыла дорогим куском мрамора на кладбище Пер-Лашез в Париже, — странно, что Юлии нет рядом, она всегда появляется кстати: впрочем, Юлия — сама жизнь, душа ее не приемлет распада и тления…
Сперва Брюллова сразила простуда, ветра в куполе прошили его легкие, жар и холод, когда он, то, разгоряченный, сбрасывал куртку, то, сотрясаемый ознобом, вновь натягивал ее, помогли укорениться болезни, ревматизм грыз его суставы и нанес удар в самое сердце, истрепанное неразумной жизнью. Врачи твердили ему, что жил он неправильно и нерасчетливо, он отвечал, что при жизни расчетливой и правильной, не знающей бурных сотрясений сердца и внезапных замираний его, не знающей сонливой медлительности его сокращений, когда кажется, уже ничего не в силах растревожить в нем былое волнение, и вдруг снова в ослабнувшей мышце нахлынувшего счастливого бешеного перестука, — без всей нерасчетливости этой не было бы ни Карла Брюллова, ни мира, им созданного. «Я горел, как свеча, подожженная с двух сторон», — говорил он. А думал: и должен был гореть.
Врачи решили, что климата петербургского ему не выдержать, надо выбирать новое местожительство, он путешествует по ландкарте, мир за окнами мастерской беспокоен…
…22 февраля 1848 года в Париже возле церкви святой Магдалины собралась толпа; явились студенты с левого берега Сены, потом подошли рабочие. День был пасмурный, моросил дождь. В толпе выкрикивали лозунги с требованием свобод, пели «Марсельезу». В сумерках народ двинулся по улицам, кое-где появились баррикады, загорелись костры в Тюильрийском саду. Ночью рабочие вооружились, начались стычки с войсками и полицией. Вечером 23 февраля солдаты 14-го линейного полка стреляли в народ. Толпа была густая; после первого залпа упало человек пятьдесят. По улицам Парижа допоздна двигалась одноконная повозка, освещенная факелами; стоявший в повозке рабочий поднимал и показывал народу труп молодой женщины, ее шея и грудь были залиты кровью. Рабочий кричал: «Мщение! Убивают народ!» В эту ночь парижане построили полторы тысячи баррикад. На следующий день Луи-Филипп подписал отречение от престола. Две закрытые кареты, эскортируемые кирасирами, мчались по набережным, унося королевскую семью из восставшего города; толпа ворвалась во дворец, разрушила трон и выбросила в окна королевскую мебель.
Несколько дней спустя, когда сановный Петербург собрался в домовой церкви покойного князя Васильчикова, где служили панихиду по случаю годовщины его кончины, появился в толпе статс-секретарь императрицы и, не слушая молитвы, зашептал соседям про только что полученную телеграфическую депешу о французских событиях. Через несколько минут толпа в церкви жужжала потревоженным улеем, священник торопился закончить панихиду. На следующий день во время бала у наследника Николай Первый получил новую депешу и произнес тут же ставшие знаменитыми слова: «Седлайте коней, господа! Во Франции объявлена республика!» Но передавали, что поначалу государь восклицал что-то невнятно, что у канцлера Нессельроде при докладе выпала из рук бумага с парижскими новостями. Все бросились в кофейни и кондитерские читать газеты, номера «Северной Пчелы», печатавшей политическую информацию, раскупались до единого, полиция получила приказание сообщать в Третье отделение имена лиц, разговаривающих о революции. Между образованными людьми поднялась паника, в беседе старались показать словами полнейшую невинность мыслей, иные спешили предупредить о своей невинности доносом…
…Из Орской крепости, которую сами киргизы называют Яман-Кала, то бишь «дрянь-город», прислал с оказией письмецо Тарас Шевченко, сосланный в солдаты с запрещением писать и рисовать: просил Карла Павловича заступиться за него перед властями предержащими. Но нет больше карты в колоде, на которую была бы поставлена свобода Шевченко, и нет никого вокруг, кто купил бы теперь в лотерее такую карту. Да и проситель из Брюллова никудышный, особливо в такое время. Хотя и не сбросили его с лесов, но леса под ним разобраны.
Тарас жаловался Жуковскому: при своей великости Брюллов самой малости не хочет сделать («говорю не хочет, потому что он может») — из оренбургских степей виделись картины, исполненные надежды.
А добрый заступник Василий Андреевич Жуковский, уже который год как поселился в Германии: однажды навещая в Дюссельдорфе друга своего однорукого художника Рейтерна, пятидесятивосьмилетний Жуковский обручился с его дочерью, восемнадцатилетней девицей, одновременно мечтательной и нервически подвижной, которую знал еще ребенком. Теперь у Василия Андреевича — малютки, дочка и сынок, юная жена с тяжким послеродовым душевным расстройством, непривычная оседлая жизнь на старости лет, тоска по отечеству и бесконечные обстоятельства, препятствующие возвратиться туда, какие-то фруктовые супчики взамен наилюбимейшей крутой гречневой каши, долгий перевод «Одиссеи», представлявшийся чуть ли не жизненным назначением, и грусть по простой, душевной поэзии. Что ни год Василий Андреевич собирался в Россию, бодрился, строя планы новой жизни, но всякий раз что-нибудь да мешало — то петербургская холера, то европейские события, то болезнь жены, требовавшая лечения у швейцарских докторов. Он смирился…