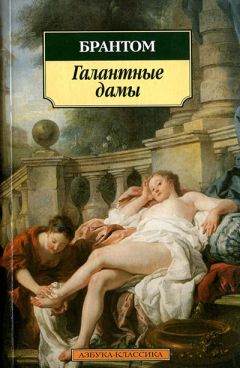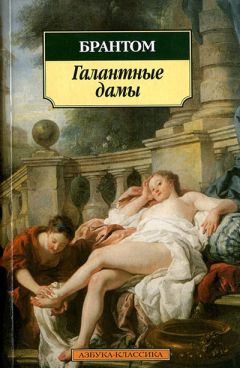Мне сообщили их имена: то были госпожа де Шатобриан (или же госпожа де Канапль), госпожа де Шатийон и вдова бальи из Кана — все три весьма достойные особы. А поведали мне о сем наши придворные старожилы.
А госпожа д’Юзес поступила лучше; в то время, когда Папа Павел III посетил Ниццу, чтобы повидаться с королем Франциском, она была еще госпожой Дю Белле и с ранней юности обладала весьма привлекательной внешностью и острым язычком. Однажды она явилась пред очи Его Святейшества — и, простершись перед ним, стала умолять о трех вещах: прежде всего, об отпущении греха: будучи маленькой девочкой, фрейлиной госпожи регентши (тогда ее еще звали девицей Таллар), она, вышивая, потеряла ножницы и поклялась принести обет святому Алливерготу, если их найдет, а отыскав, не исполнила сего намерения, поскольку не смогла узнать, где покоятся его святые мощи. Второй оказалась просьба о прощении дерзости: когда Папа Климент прибыл в Марсель, она — все еще оставаясь девицей Таллар — взяла одну из подушек на его спальном ложе и подтерла ею себе перед и зад (а потом Его Святейшество покоил на этой подушке достойнейшую главу и лицо, а также рот, который касался того места на подушке). Наконец, третья просьба: отлучить от Церкви господина де Тэ, поскольку она его любила, а он ее нет, а значит, проклят, ибо тот, кто не любит, будучи сам любим, — достоин отлучения.
Папа, удивленный, осведомился у короля, кто сия особа, и, узнав, что она записная шутница, вовсю посмеялся вместе с королем. Меня не удивило, что она потом стала гугеноткой и от души издевалась над папами, поскольку начала-то она с юных лет; впрочем, и в те поры все в ней пленяло, ибо и черты ее, и речи сохранили былое изящество.
Однако же не надо думать, что великий тот монарх так чопорно и ханжески был нетерпим ко всему, что касалось женщин, и не любил про них хорошие истории; он с удовольствием выслушивал таковые — если в них не было ничего задевающего честь или доброе имя — и даже сам мог поведать что-нибудь подобное; но при всем том, оставаясь королем и пользуясь этой привилегией, не желал, чтобы каждый встречный или человек низкого звания оказался в сем случае на равной с ним ноге.
Говорили мне, что он очень хотел, чтобы все благородные сеньоры при его дворе имели бы возлюбленных, а если они от того уклонялись, считал их людьми пустыми и глупыми; часто он выпытывал у них имена его или ее обоюдной симпатии, обещая свою помощь и благодеяния, — так он был добр и отзывчив душой! А нередко, заметив, что кто-то в сильном раздоре со своей милой, он обращался к ним, спрашивая, что хорошего они сказали возлюбленной; а найдя их слова недостаточно ловкими или любезными, советовал пустить в ход другие, понежнее. А с самыми приближенными не кичился и не скупился, одаряя разными историями и выдумками, одну из коих — притом презабавную — пересказали и мне. В ней шла речь о молодой привлекательной особе, приехавшей ко двору, каковая, не блистая тонкостью ума, легко поддалась улещиваниям больших вельмож, а особо самого короля, который, пожелав однажды водрузить свой «стяг на крепком древке» в ее «цитадели», прямо сказал ей об этом; она же, прослышав от иных, что, когда что-то даешь королю или берешь у него, надо сперва поцеловать это — или же руку, которая этого коснется или пожмет, — не растерялась, а, смиреннейше поцеловав руку, взяла королевский «стяг» и нижайше водрузила его в «крепость», а затем прехладнокровно вопросила, хочет ли он, чтобы она услужила ему как добропорядочная и целомудренная женщина или же — как распутница. Не надо сомневаться, что он захотел «распутницу» — поскольку с нею приятнее, чем со скромницей, — и тотчас убедился, что она не теряла время зря: и умела и «до», и «после», и все, что душе угодно; а затем отвесила ему глубочайший поклон и, всепокорнейше поблагодарив за оказанную честь, коей она недостойна, стала тотчас (а также и потом) просить о каком-нибудь продвижении для ее супруга. Я слышал имя этой дамы, каковая впоследствии не вела себя столь наивно, как ранее, но ловко и хитро. Однако король не отказал себе в прихоти поведать сию историю, и слышало ее немало ушей.
Он всегда любопытствовал и выспрашивал каждого о его любовных делах — особливо о постельных баталиях, и даже о том, что нашептывали, о чем молили дамы в самой горячке, и как вели себя, и какие принимали позы, и что говорили «до», «во время» и «потом», — а прознав, смеялся от всей души, но тотчас запрещал передавать это иным — дабы не вышло позора — и советовал хранить тайну и честь возлюбленных.
А в наперсниках у него пребывал величайший муж Церкви, весьма добросердечный и щедрый кардинал Лотарингский; я бы назвал его образцом великодушия, ибо подобного ему в те времена не водилось; порукой тому — его щедрость, милостивые дары и особенно пожертвования на бедность. Он всегда носил с собой большую суму, куда его камер-лакей, ведавший тратами, каждое утро клал три или четыре сотни экю; а встретив нищего, засовывал руку в свой мешок — и что ухватывала рука, то и давал, не дорожась и не выбирая. Именно ему какой-то бедный слепец, которому была брошена пригоршня золота, громко воскликнул по-итальянски: «О tu sei Chris-to, о veramente el cardinal di Lorrena» (Ты или Христос, или кардинал Лотарингский). Но если он не скупился, благодетельствуя беднякам, то был еще щедрее с иными людьми, особенно с нежными созданиями, коих его чары легко уловляли, ибо в те времена ощущалась большая нужда в деньгах (не то что сейчас, когда кошельки полны у всех), а на привольную жизнь и украшения всегда не хватает.
Рассказывали, что стоило явиться ко двору какой-нибудь пригожей девице или не появлявшейся ранее красили даме, как он тотчас ее привечал и увещевал, говоря, что желает выпестовать ее своею рукой. А какой наездник! Впрочем, ведь ему приходилось иметь дело отнюдь не с дикими жеребцами. В кругу приближенных короля поговаривали, что не было особы — свежеприбывшей или надолго задержавшейся при дворе, — каковую он бы не совратил или не подцепил на крючок ее жадности и своей щедрости (и мало кто вышел из такой переделки, сохранив чинность и добродетель). А сундуки прелестниц все полнились новыми платьями, юбками, золотом и серебром, шелками — словно у теперешних королев и вельможных дам. Я сам имел случай повидать двух или трех из тех, кто заработал передком подобные блага: ни отец, ни мать, ни супруг не могли бы доставить им ничего подобного в таком обилии.
Кое-кто не преминет заметить, что мне можно бы и обойтись без того, что я только что написал о сем великом кардинале, — поимев больше уважения к его одеянию пастора и почтения к высокому сану, — но король желал его видеть таким, это доставляло монарху удовольствие, а стремление понравиться своему повелителю оправдывает весьма многое: и любовные увлечения, и прочее — лишь бы не было здесь злобы и коварства; а уж воинские подвига и охота, танцы, маскарады и иные упражнения — все благо; притом учтите, что наш кардинал был человеком из плоти и крови, как всякий другой, и его украшали многие добродетели и совершенства, каковые затмевали столь малую слабость (если таковой уместно назвать любовные утехи).