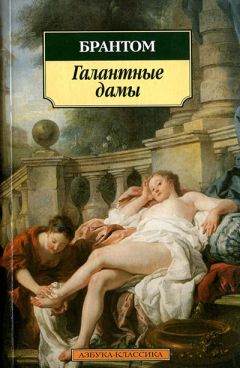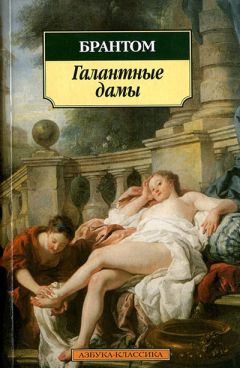Рассказывали, что стоило явиться ко двору какой-нибудь пригожей девице или не появлявшейся ранее красили даме, как он тотчас ее привечал и увещевал, говоря, что желает выпестовать ее своею рукой. А какой наездник! Впрочем, ведь ему приходилось иметь дело отнюдь не с дикими жеребцами. В кругу приближенных короля поговаривали, что не было особы — свежеприбывшей или надолго задержавшейся при дворе, — каковую он бы не совратил или не подцепил на крючок ее жадности и своей щедрости (и мало кто вышел из такой переделки, сохранив чинность и добродетель). А сундуки прелестниц все полнились новыми платьями, юбками, золотом и серебром, шелками — словно у теперешних королев и вельможных дам. Я сам имел случай повидать двух или трех из тех, кто заработал передком подобные блага: ни отец, ни мать, ни супруг не могли бы доставить им ничего подобного в таком обилии.
Кое-кто не преминет заметить, что мне можно бы и обойтись без того, что я только что написал о сем великом кардинале, — поимев больше уважения к его одеянию пастора и почтения к высокому сану, — но король желал его видеть таким, это доставляло монарху удовольствие, а стремление понравиться своему повелителю оправдывает весьма многое: и любовные увлечения, и прочее — лишь бы не было здесь злобы и коварства; а уж воинские подвига и охота, танцы, маскарады и иные упражнения — все благо; притом учтите, что наш кардинал был человеком из плоти и крови, как всякий другой, и его украшали многие добродетели и совершенства, каковые затмевали столь малую слабость (если таковой уместно назвать любовные утехи).
До меня дошла еще одна история о кардинале и его уважении к прекрасному полу. По природе своей он был весьма любезен, но однажды отступил от своего обыкновения, когда встретился с госпожой герцогиней Савойской, доньей Беатрисой Португальской. Однажды, направляясь в Рим, — по поручению короля, своего повелителя, — он проезжал через Пьемонт и посетил герцога и герцогиню. Побеседовав с супругом, он отправился в спальню его половины, чтобы поприветствовать ее. Она, будучи самой чванливой из всех, кого видывал свет, протянула ему руку для поцелуя. Раздосадованный подобной выходкой, кардинал приблизился, чтобы запечатлеть поцелуй на ее устах, однако она отшатнулась от него. Тут он потерял терпение: придвинувшись еще ближе, схватил голову дамы обеими ладонями и, невзирая на ее сопротивление, поцеловал ее дважды или трижды. Ее крики и восклицания по-португальски и по-испански его вовсе не тронули — и ей пришлось подчиниться. «Что с вами? — грозно вопросил он. — Пристало ли вам встречать меня с таким лицом и манерами? Я распрекрасно целую королеву — мою госпожу, величайшую из монархинь этого мира, — а здесь мне не позволено поцеловать какую-то жалкую замарашку-герцогиню? Мне угодно, чтобы вы знали: я многажды спал со столь же красивыми дамами из столь же почтенных родов, как ваш, если еще не почтеннее». Возможно, что он говорил правду. Принцесса была не права, когда вздумала держаться с таким высокомерием в присутствии столь важного и родовитого сановника — притом кардинала, — ибо нет такого кардинала (если учесть сей высокий титул в церковной табели), какой не сравнится знатностью с величайшими вельможными дамами христианского мира. Однако и господин кардинал напрасно избрал такую жестокую кару за ее гордыню, ибо для сердца высокорожденных, какой бы сан они ни носили, до крайности нестерпимо сносить подобные обиды.
Кардинал де Гранвель хорошо дал это почувствовать графу Эгмонту и прочим, коих имена я удержу на кончике пера, ибо, перечисляя их, слишком нарушил бы ход своих рассуждений, а потому обращусь вспять и перейду к покойному королю Генриху II, который весьма уважительно обходился с дамами, относясь к ним с великим почтением, и презирал хулу и наветы на их добродетель. А когда сам король так мирволит прелестным особам — да притом весьма тверд в этом обыкновении и сурово настаивает на своем, — придворные страшатся лишний раз открыть рот и произнести что-либо непотребное. Ко всему прочему, королева-мать властной рукой поддерживала своих фрейлин и приближенных к ней сеньор и — если с ними что-нибудь приключалось — ограждала от всяческих сплетников, покушавшихся на их добрые имена, ибо и сама она не менее своих подопечных подвергалась такой опасности; правда, о себе она пеклась менее, чем о прочих, благо — если верить ее словам — она была чиста и ясность ее совести и души сами о себе свидетельствовали; посему она со смехом и пренебрежением отбрасывала злобные пасквили и доносы. «Пусть себе бесятся, — отмахивалась она, — им же хуже». Впрочем, если удавалось обнаружить пасквилянтов, она пречувствительно их наказывала.
Случилось как-то одной даме — старшей из рода Лимёй (она тогда еще делала первые шаги при дворе) — сочинить такой пасквиль (ибо она хорошо говорила и писала) — довольно прозрачный, но при всем том не слишком порочащий, скорее веселый; так вот, можете быть уверены, что та не избежала плети: королева-мать отходила ее с двумя своими служительницами; и хотя бедняжка имела честь приходиться ей родней — принадлежа к дому Тюреннов, связанному с Булонским семейством, — она ее с позором прогнала, добившись приказа короля, каковой легко выходил из себя при одном виде подобных писаний.
Помню я и неприятности, постигшие господина де Мата — доблестного и достойного вельможу, любимого королем, родственника госпожи де Валентинуа. В неразумии своем он всегда затевал легкомысленные перепалки с дамами и девицами. И вот однажды, ополчившись на одну из фрейлин королевы-матери — прозванную Большой Мере, — предложившую ему составить ей компанию для прогулки, он, по простоте, выпалил: «О, мне страшно подходить к вам, Мере, — к этакому здоровенному боевому коню в полном доспехе». И верно, она была самой рослой из когда-либо виданных мною женщин. Мере пожаловалась королеве, что ее обозвали кобылицей и снаряженным для битвы скакуном; та впала в такую ярость, что Мата пришлось немедля покинуть двор, несмотря на покровительство своей родственницы госпожи де Валентинуа, — и лишь через месяц ему позволили переступить порог покоев королевы и ее фрейлин.
А господин де Жерсей, никогда не лезший за словом в карман (особенно когда злословил, на что большой был умелец, хотя злоречие в те поры весьма сурово каралось), поступил гораздо хуже с одной из королевских фрейлин: он питал к ней вражду — и вознамерился отомстить. Однажды после полудня она находилась в покоях королевы вместе с другими придворными девицами и кавалерами (а тогда был обычай в присутствии монархини садиться только на пол), и вот упомянутый забавник, взяв у лакеев мяч из бараньей кожи, которым они забавлялись на заднем дворе, — большой такой и сильно раздутый — примостился рядом с нею на полу и изловчился просунуть сей круглый бурдюк меж ее платьем и нижними юбками так, что она ничего не почувствовала: лишь после того, как королева поднялась с кресел, чтобы отправиться в свой кабинет, сия девица (об имени коей умолчу) тоже встала: и тут — прямо на глазах у царственной особы — из нее вывалился этот бараний мяч, грязный, покрытый свалявшейся шерстью, да еще так пребодро запрыгал, подскочив шесть или семь раз, — словно то она сама решилась повеселить всю честную компанию; у нее же такого и в мыслях не было. Как же удивились и фрейлина, и ее величество, ибо комната та была открыта взорам и ничего от них не укрылось. «Пресвятая Богородица! — воскликнула королева. — Что это, моя милая, и зачем оно вам?» Бедняжка же, покраснев и чуть не плача, залепетала, что ничего не знает, что здесь чьи-то козни, кто-то сыграл с нею злую шутку — и она не может подумать ни на кого иного, кроме Жерсея. Тот же, дождавшись, пока сей бараний пузырь вывалился из-под юбок, тотчас улизнул за дверь. За ним послали — но он отказался возвратиться и, понимая, в какой ярости ее величество, с жаром от всего отперся. И еще несколько дней он не попадался ни ей, ни Королю на глаза, опасаясь их гнева, хотя и был (вкупе с Фонтен-Гереном) любимцем короля-дофина, и очень терпел, невзирая на то что прямых улик против него не находилось. При всем при том и король, и придворные, и многие дамы втихомолку посмеивались над сим случаем — но так, однако, чтоб не узнала все еще разгневанная королева, ибо никто лучше ее не умел хорошенько осадить примерно наказать за дерзость.