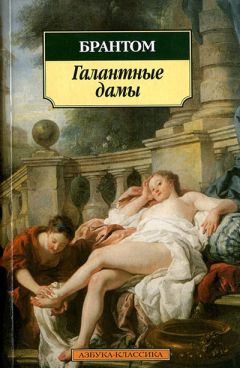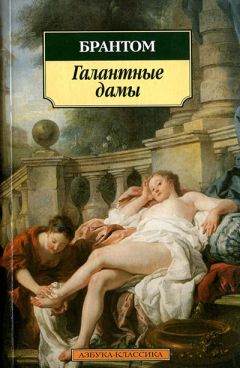Кардинал де Гранвель хорошо дал это почувствовать графу Эгмонту и прочим, коих имена я удержу на кончике пера, ибо, перечисляя их, слишком нарушил бы ход своих рассуждений, а потому обращусь вспять и перейду к покойному королю Генриху II, который весьма уважительно обходился с дамами, относясь к ним с великим почтением, и презирал хулу и наветы на их добродетель. А когда сам король так мирволит прелестным особам — да притом весьма тверд в этом обыкновении и сурово настаивает на своем, — придворные страшатся лишний раз открыть рот и произнести что-либо непотребное. Ко всему прочему, королева-мать властной рукой поддерживала своих фрейлин и приближенных к ней сеньор и — если с ними что-нибудь приключалось — ограждала от всяческих сплетников, покушавшихся на их добрые имена, ибо и сама она не менее своих подопечных подвергалась такой опасности; правда, о себе она пеклась менее, чем о прочих, благо — если верить ее словам — она была чиста и ясность ее совести и души сами о себе свидетельствовали; посему она со смехом и пренебрежением отбрасывала злобные пасквили и доносы. «Пусть себе бесятся, — отмахивалась она, — им же хуже». Впрочем, если удавалось обнаружить пасквилянтов, она пречувствительно их наказывала.
Случилось как-то одной даме — старшей из рода Лимёй (она тогда еще делала первые шаги при дворе) — сочинить такой пасквиль (ибо она хорошо говорила и писала) — довольно прозрачный, но при всем том не слишком порочащий, скорее веселый; так вот, можете быть уверены, что та не избежала плети: королева-мать отходила ее с двумя своими служительницами; и хотя бедняжка имела честь приходиться ей родней — принадлежа к дому Тюреннов, связанному с Булонским семейством, — она ее с позором прогнала, добившись приказа короля, каковой легко выходил из себя при одном виде подобных писаний.
Помню я и неприятности, постигшие господина де Мата — доблестного и достойного вельможу, любимого королем, родственника госпожи де Валентинуа. В неразумии своем он всегда затевал легкомысленные перепалки с дамами и девицами. И вот однажды, ополчившись на одну из фрейлин королевы-матери — прозванную Большой Мере, — предложившую ему составить ей компанию для прогулки, он, по простоте, выпалил: «О, мне страшно подходить к вам, Мере, — к этакому здоровенному боевому коню в полном доспехе». И верно, она была самой рослой из когда-либо виданных мною женщин. Мере пожаловалась королеве, что ее обозвали кобылицей и снаряженным для битвы скакуном; та впала в такую ярость, что Мата пришлось немедля покинуть двор, несмотря на покровительство своей родственницы госпожи де Валентинуа, — и лишь через месяц ему позволили переступить порог покоев королевы и ее фрейлин.
А господин де Жерсей, никогда не лезший за словом в карман (особенно когда злословил, на что большой был умелец, хотя злоречие в те поры весьма сурово каралось), поступил гораздо хуже с одной из королевских фрейлин: он питал к ней вражду — и вознамерился отомстить. Однажды после полудня она находилась в покоях королевы вместе с другими придворными девицами и кавалерами (а тогда был обычай в присутствии монархини садиться только на пол), и вот упомянутый забавник, взяв у лакеев мяч из бараньей кожи, которым они забавлялись на заднем дворе, — большой такой и сильно раздутый — примостился рядом с нею на полу и изловчился просунуть сей круглый бурдюк меж ее платьем и нижними юбками так, что она ничего не почувствовала: лишь после того, как королева поднялась с кресел, чтобы отправиться в свой кабинет, сия девица (об имени коей умолчу) тоже встала: и тут — прямо на глазах у царственной особы — из нее вывалился этот бараний мяч, грязный, покрытый свалявшейся шерстью, да еще так пребодро запрыгал, подскочив шесть или семь раз, — словно то она сама решилась повеселить всю честную компанию; у нее же такого и в мыслях не было. Как же удивились и фрейлина, и ее величество, ибо комната та была открыта взорам и ничего от них не укрылось. «Пресвятая Богородица! — воскликнула королева. — Что это, моя милая, и зачем оно вам?» Бедняжка же, покраснев и чуть не плача, залепетала, что ничего не знает, что здесь чьи-то козни, кто-то сыграл с нею злую шутку — и она не может подумать ни на кого иного, кроме Жерсея. Тот же, дождавшись, пока сей бараний пузырь вывалился из-под юбок, тотчас улизнул за дверь. За ним послали — но он отказался возвратиться и, понимая, в какой ярости ее величество, с жаром от всего отперся. И еще несколько дней он не попадался ни ей, ни Королю на глаза, опасаясь их гнева, хотя и был (вкупе с Фонтен-Гереном) любимцем короля-дофина, и очень терпел, невзирая на то что прямых улик против него не находилось. При всем при том и король, и придворные, и многие дамы втихомолку посмеивались над сим случаем — но так, однако, чтоб не узнала все еще разгневанная королева, ибо никто лучше ее не умел хорошенько осадить примерно наказать за дерзость.
Как-то раз некий почтенный дворянин и одна юная (которую привечали при нашем дворе), бывшие ранее в великой дружбе, рассорились и разругались до того, что девица в апартаментах государыни при всех громко и с гневом объявила: «Оставьте меня — иначе я скажу вслух то, что вы мне тут нашептывали». А сей дворянин только что сообщил ей нечто — для чужих ушей не предназначенное — об одной весьма высокородной особе; и прознай кто об этом — его, самое малое, отлучили бы от двора; а потому, не растерявшись — ибо всегда был скор на ответ, — возразил: «Если вы скажете, что я вам говорил, я расскажу, что я с вами сделал». Кто оказался в проигрыше? Разумеется, девица. Но она тотчас нашлась: «Что вы могли со мною сделать?» А он: «Так что же я мог вам сказать?» Та на это: «Мне-то известно, что вы сказали». И он опять: «И мне не забыть, что я с вами сделал». Она вновь отражает наскок: «Я могу доказать то, что вы мне говорили». И он так же: «А я не хуже вашего способен доказать, что я сделал». И таким манером долго наскакивали друг на друга, говоря подобные слова, пока не расстались, покинув присутствовавших, изрядно, впрочем, повеселившихся.
Их перепалка достигла ушей королевы и привела ее в гнев; ей захотелось узнать о словах и деяниях и того, и другой; а посему за ними было послано. Но они оба — видя, что не миновать им худа, — сговорились и, представ вместе, стали уверять ее величество, будто все это было лишь невинной забавой, — и отрицали, и запирались насчет того, что сказал либо сделал сей дворянин. И так они отговорились, хотя королева все же строго отчитала сего господина за неприличные речи. Он же мне раз двадцать побожился, что, не успей он условиться с указанной особой заранее и выложи они все, пришлось бы ему стоять на своем: что девица та была им лишена невинности, в чем нетрудно убедиться, если осмотреть ее, как надлежит. На то я ему отвечал: «Все так, но ежели бы ее осмотрели и нашли невинной — ведь она была девицей, — вам пришел бы конец; за такое можно и головой поплатиться». «Ах, дьявол ее побери! — воскликнул он. — Этого-то я больше всего и добивался. А за свою жизнь мне нечего было опасаться: в своем копье я уверен; я-то знал, кто ее первый распочал, — и был сим весьма опечален; а после того как ее бы осмотрели и установили истинные следы содеянного, с ней было бы покончено: она бы оскандалилась, а я был бы отмщен. Правда, мне бы пришлось в наказание жениться на ней, а потом отделаться от нее по мере сил». Вот каким превратностям, порой из-за сущей безделицы, подвергают себя девицы и зрелые дамы.