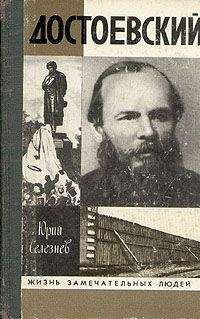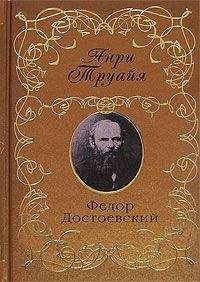Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели, как замагнитизированные, совсем под обаянием его слов».
Конечно, Анна Васильевна понимала, что за человек перед ней и какая редкая удача «выпала ей в жизни — встретиться и подружиться с Достоевским; но столь же ясно она видела всю пропасть, разделявшую их взгляды на мир, будущее и, главное, — на нигилизм. О нигилизме они спорили постоянно. Она доказывала, что быть нигилистом — значит, быть передовым человеком. Он убеждал: весь нигилизм от тупости и неразвитости: вон ведь доотрицались — смазные сапоги им дороже десяти Пушкиных! — чуть не кричал он, все более возбуждаясь.
— Пушкин действительно устарел для нашего времени, — спокойно добивала его Анна Васильевна, уже прекрасно знавшая, чем можно довести Федора Михайловича до помрачения.
Достоевский судорожно хватал шляпу, убегал, успевая только бросить на ходу, что напрасно он тратит время на нигилистку, с которой и спорить-то бессмысленно, и что ноги его больше в этом доме не будет. На следующий день он приходил как ни в чем не бывало, и все повторялось сначала.
— У вас дрянная, ничтожная душонка! — горячился Федор Михайлович. — То ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чистая! — «Я все краснела от удовольствия, — вспоминала о тех днях Софья Васильевна, — и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю: а ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры», — думается мне, и я начинаю мысленно молиться: «Господи боже мой! Пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой — сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»
Но однажды она случайно увидела: они сидели рядом на маленьком диванчике... Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись, говорил:
— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом... — «У меня в глазах помутилось...»
Вечером Анюта гладила свою маленькую сестренку по голове, утешала:
— Да перестань же, дурочка! Вот глупая!.. Ведь вздумала же влюбиться — и в кого? В человека, который в три с половиной раза ее старше!..
— Так неужели же ты не любишь его? — спросила Софья шепотом старшую.
— Вот видишь ли... Я люблю его не так, как он, ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж (у младшей сразу посветлело на душе, и она бросилась целовать Анюте руки и шею), ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать. А я этого не могу. Он постоянно как будто захватывает меня, при нем я никогда не бываю сама собой...
«Господи! — думала младшая, стараясь при этом придать своему лицу выражение, будто она совершенно сочувствует старшей. — Господи! Какое... счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиниться...»
Через несколько дней Корвин-Круковские отбыли обратно в Витебск. Федор Михайлович и Анна Васильевна расстались друзьями, обещали писать друг другу. «Со мной, — рассказывает младшая, — его прощание было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил».
Нет, от него не могло укрыться страдание совсем еще юного сердечка, но он и знал — это то страдание, которое разбудит в ней человека и никогда уже не даст ему быть равнодушным, потому что это созидательное, пробуждающее душу, открывающее ей самое себя страдание.
Но никто не хотел замечать, как бесприютно ему в этом огромном, бесконечном мире. Пока еще было дело — его журнал, он изнурял себя едва не круглосуточной работой. Но состояние «Эпохи» все ухудшалось. Начинать журнал в тех условиях, в которых он начинался, было, конечно, чистым донкихотством, но продолжать и далее — уже совершенным безумием: расходы на издание настолько превышали сумму, которую давала распродажа номеров, что его долги все возрастали, грозя ему единственным исходом — долговой тюрьмой. И «Эпоху» пришлось прекратить. Он воспринял это крушение как крушение самой своей надежды на возможность хоть как-то внести в хаос мыслей и чувств, в химическое — на глазах — разложение общества духовно единящее слово. Эпоха явно чуждалась духа и смысла его «Эпохи».
Он чувствовал себя словно в тяжелой неведомой болезни, поселившейся в нем, чтоб не убивать, но мучить, не оставляя надежды на исход. Говорят, будто дом мужчины если после сорока лет не наполняется детскими криками, он наполняется кошмарами. О детских криках в его пустом доме, давящем мысль и волю низкими потолками, он уже и не помышлял. Разве что в воспаленной ночными бессонницами полуяви...
Ему грезилось временами какое-то наплывающее, сначала неясное, но раз от разу все более обретающее завершенность видение, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас бесноватыми. Но никогда не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знал, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше...
Он гнал наваждение, бежал из, дому, бродил по Сенной, заходил в трактиры, но всюду его преследовало одно и то же ощущение: ему некуда идти и не к кому. Никому-то он не нужен на всем белом свете. Никому. Кроме кредиторов, разумеется. Прекратив издание и оставшись, по существу, без копейки, он навесил на себя огромный долг большей частью в векселях, перекупленных опытными кредиторами-ростовщиками, которые теперь чуть не каждый день тащили его на суд, и он вынужден был давать обязательства об уплате под огромные проценты. То какая-то мадам Гинтерлих, то какой-нибудь Демис... Теперь вот присяжный стряпчий Лыжин Павел Петрович потребовал немедленной уплаты 450 рублей. Уже и повестку прислали — на завтра назначена опись домашнего имущества в счет одного из нескольких десятков векселей. Ну спишут, а потом? Все равно тюрьма...