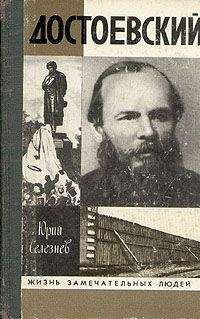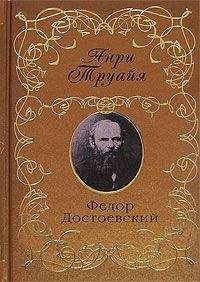Неужели же и впрямь нелюди? «Сердце с перцем, душа с чесноком», — говорят о таких в народе. И ведь не деньги порой заставляют кое-кого тащить его в суд, толкать в яму. «Вот вы талантливый литератор, — объяснил ему один из ростовщиков-вымогателей, — а я вот хочу показать, что я всего-навсего маленький купец, а могу, если захочу, знаменитого русского литератора запрятать в долговую тюрьму. А? И как вам это нравится?»
На этот раз пронесло. Литературный фонд решил выдать Достоевскому по его исходатайствованию в долг 600 рублей.
И что делать? Бороться? Но как и чем? Словом, на которое он уповает. Но нужно же наконец и трезво взглянуть правде в глаза: слово его бессильно хоть что-нибудь изменить в этом мире, который словно охвачен страшной нравственной болезнью, будто впал в состояние всеобщего преступления, когда все дозволено и нет наказания.
И разве его собственные страдания любовные и рулеточные — и это при брошенной, умирающей жене, — разве не говорят о том, что и сам он болен тою же болезнью, а все еще хлопочет о врачевании мира. Сказано ведь: «Врачу, исцелися сам!»
В нем шла борьба: ему страшно хотелось искупить все свои реальные и мнимые, часто преувеличенные до вселенских размеров, свои вины перед миром и людьми, будто от этого его личного искупления зависело и состояние всего мира, будто найди он в себе силы начать новую, иную, достойную его собственных идеалов, жизнь — и что-то само собой изменится и в жизни всего человечества.
Но как начнешь ее, эту иную жизнь? Да и другой голос тут же говорил ему иное, другая потребность заявляла о себе столь же властно: он должен быть счастлив во что бы то ни стало, он обязан вырвать у обстоятельств право на личное счастье. Он все еще мечтает о тихой пристани для себя, о встрече с родным сердцем, об отцовстве...
Главное — нельзя сидеть сложа руки, иначе окончательно дойдешь до самооправдания, до сознания собственного бессилия перед властью обстоятельств: при чем-де я — эпоха виновата, время-то, мол, какое! — нероново!.. Но ведь и те времена рождали не одних Клеопатр и не только Неронов, ведь та же самая эпоха породила и Христа, и первохристианских мучениц. И русская история — мы только плохо, очень плохо знаем ее — полна не только героических имен защитников и радетелей отчей земли и веры, но и героических защитниц чести семьи и рода, великих сподвижниц своих великих мужей: Ярославна, Феврония, Аввакумова протопопица Марковна. Да и в начале века еще — и декабристки, и пушкинская Татьяна — с их ничем не истребимой убежденностью в нераздельности любви и долга. Где они? Помутилось время, замутились, перемешались понятия, затосковала душа на беспутье. Ему, Достоевскому, трудно, а другим тысячам и миллионам легче? Есть же она у каждого, эта душа, даже и у заблудших, заплутавших: ту вон, глядишь, за билетик один-единственный на всю ночь ангажировать можно — растленная, падшая проститутка, отверженная... А в ней, может быть, чистоты больше, чем у иных светских девиц на выданье, потому как они в брак продают себя с душой и телом, да и то не мужу: душу черту, а тело сохранить бы до замужества, а там — любому с надушенными усами да умеющему изящно подавать комплименты, ну а если к тому же еще гусар!..
А эта несчастная, может быть, и тело-то свое отдала на поругание, чтобы за тот нищенский билетик, которым оплатит господин с надушенными усами ночь, проведенную с этой тварью, пока его невеста хранит до свадьбы свою неприкосновенность, — за этот билетик накормить умирающую мать или маленькую сестренку, спасти ее от поругания, на которое пошла сама. А душа ее, светлая, измученная, чистая, поруганная, не мечтает ли о той встрече с принцем, что однажды и на всю жизнь? А принц-то, рыцарь-то, Шиллер — идеалист современный, благородное сердце, он и сам, может быть, уже убил кого-то, да на каторгу, на страдание готовится... Да и как же ему-то, если сердце у него благородное, пылкое, и не сделаться убийцей-то сегодня? Сам последнюю копеечку, присланную старой его матерью, доедает где-нибудь на чердаке или в подвале, за который, поди, месяца три не платил и которого хозяйка только по крайней его жалости пока не выбрасывает. Студент какой-нибудь весь мир небось облагодетельствовать необыкновенным своим подвигом мечтает. А тут кредиторщик какой, процентщик рядом живет, мерзкий паук, не человек, да еще чью-нибудь жизнь молодую заедает, все миллионы и миллионы накапливает... Ну вот и задумается же однажды студент-то этот, сидя в своей чердачной комнатке, больше на гроб похожей, чем на квартиру: пауку ли жизни чьи-то губить, живя на белом свете, или матери его, старушке, умирать, надрываясь над непосильной работой, сестрице молодой да красивой, такой же, как он, идеалистке, замуж за какого-нибудь Лыжина, к примеру, того, что его, Достоевского, на суд тащил, замуж пойти, запродать себя на всю свою горемычную жизнь? Ну а тут и вспомнит вдруг призыв: «К топору!» Ну, пойдет да и возьмет топор, да и тюкнет миллионщика по башке, чтоб его миллионами счастье-то устроить бедным да несчастным, от смерти и позора несчастных людей спасти... А что ж, пожалуй, что и пойдет. Не тот, так этот: всего одно преступление, да и то что ж за преступление — паука-то в человеческий рост раздавить, тут подвиг — решит, а не преступление, но потом — тысяча добрых дел, которые искупят любые преступления. Так-то вот, сидя на чердаке, и додумается, и пойдет, и, пожалуй, тюкнет... А потом? Потом — каторга. Каторга мучительнейшая — каторга собственной совести... Ну вот и встретятся они, как-нибудь уж сведет судьба где-нибудь в каморке петербургской «вечного убийцу» этого и вечную, пока мир стоит, «блудницу» у свечки догорающей... Неужто и они, исстрадавшиеся, измученные, не найдут друг друга, не поймут, не рванутся на встречу, на вечную встречу, сердца их?.. И не воскреснут в этой встрече для новой, пока и неведомой им, жизни?..
«Душа всегда затаит более, нежели сколько может выразить в словах, красках или звуках», — написал он однажды Михаилу Михайловичу, тогда еще Мише, — сколько ж ему самому было тогда? Семнадцать, не больше, пожалуй, — вот вспомнилось вдруг. «Оттого трудно исполнять идею творчества».
Что он знал тогда еще о творчестве, казалось бы, а сейчас сколько уж написано, вся грамотная Россия читает и в Европе переводят, а скажет ли теперь более того, что сказано?
И сколько же сокровеннейших видений приходилось затаивать в душе и выдумывать что-нибудь срочное, что можно было бы запродать в журналы и исполнить в срок. Решил отложить до лучших времен и замысел об убийце-«благодетеле», а пока предложить другой.
И вот ведь до чего дошло, как судьба-то распорядилась — сел (а к кому еще обратиться? В «Современник», что ли?) сочинять письмо Краевскому — вечному работодателю; разумеется, дателю тому только, на ком беспроигрышный процент можно заработать. Ну, на нем-то, Достоевском, заработает, так что не откажет: