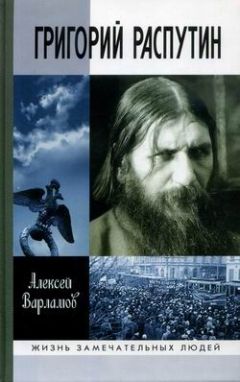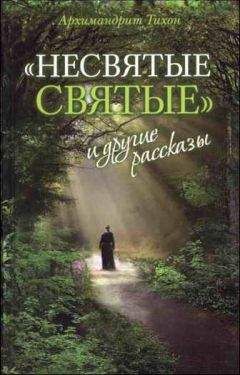«Миленькаи папа и мама! Вот бес-то силу берет окаянный. А Дума ему служит: там много люцинеров и жидов. А им что? Скорее бы Божьяго помазаннека долой. И Гучков господин их прихвост, — клевещет, смуту делает. Запросы. Папа. Дума твоя, что хошь, то и делай. Какеи там запросы о Григории. Это шалость бесовская. Прикажи. Не какех запросов не надо. Григорий», — обращался к Государю сам герой дня (хотя как раз революционеры — социал-демократы и социалисты-революционеры — были единственными, кто против него не выступал, и понятно почему). Но ни правительство, ни царь ничего не приказывали.
«Высшие правительственные сферы также оказались несостоятельными в этом болезненном для России и для всех любящих свою Родину вопросе, некоторые по малодушию, другие по непониманию серьезности положения. Таким образом, "Распутиниада" росла, захватывая все большие и большие круги», — писал Джунковский.
«…печать не унималась. Все описанные эпизоды переносились на газетные столбцы, которые не переставали твердить о роли Распутина, а члены Государственной думы постоянно твердили о необходимости удалить его из столицы, чтобы положить конец всему возбуждению.
29-го января, в воскресенье, в Зимнем Дворце был парадный обед, по случаю приезда Черногорского короля. После обеда Государь долго разговаривал с Макаровым, как выяснилось потом, все по поводу Распутина, и вторично высказал ему свое неудовольствие на печать, опять требуя обуздать ее, и сказал даже: "Я просто не понимаю, неужели нет никакой возможности исполнить мою волю", и поручил Макарову обсудить со мною и Саблером, что следует предпринять. Тут впервые я оказался уже открыто пристегнутым к этой печальной истории, — вспоминал Коковцов. — На следующий день, в понедельник, 30-го числа, вечером, у меня собрались Макаров и Саблер, чтобы обсудить, что можно сделать для исполнения поручения Государя. Нам не пришлось долго спорить. Я опасался всего более осложнений со стороны Саблера, назначенного на обер-прокурорское место, конечно, не без влияния Распутина, успевшего провести в антураж Саблера и своего личного друга Даманского, назначенного незадолго перед тем на должность Товарища Обер-Прокурора. По городу ходили даже слухи о том, что Распутин рассказывал всем и каждому, что Саблер поклонился ему в ноги, когда тот сказал ему, что: "поставил его в оберы". Об этом говорил и Илиодор в его воспоминаниях, напечатанных под заглавием "Святой Черт".
Ожидания мои, однако, не сбылись, Саблер прежде всего и самым решительным тоном заявил, что история Распутина подвергает Государя величайшей опасности, и что он не видит иного способа предотвратить ее, как настаивать на отъезде его совсем в Покровское, и готов взять на себя почин не только повлиять в этом смысле на самого Распутина, но и доложить Государю самым настойчивым образом о том, что без этого ничего сделать нельзя. Правда, при этом Саблер поспешил оговориться, что ему нелегко исполнять эту миссию по отношению к старцу, с которым у него "никаких отношений нет", но близкие его сослуживцы знакомы с ним, и поэтому он надеется уговорить Распутина.
Всем нам казалось при этом, что для успеха дела важно привлечь на нашу сторону Бар. Фредерикса, преданность которого Государю, личное благородство и отрицательное отношение ко всякой нечистоплотности облегчало нам наше представление Государю.
В тот же вечер, около 12-ти часов мы поехали с Макаровым к Фредериксу. Саблер отказался нас сопровождать, сказавши, что его ждут с нетерпением его друзья, желающие узнать результаты нашего совещания.
С Бароном Фредериксом наша беседа была очень коротка. Этот недалекий, но благородный и безупречно честный человек хорошо понимал всю опасность для Государя Распутинской истории и с полной готовностью склонился действовать в одном с нами направлении. Он обещал говорить с Государем при первом же свидании, и Макаров и я настойчиво просили его сделать это до наших очередных докладов, — Макарова в четверг, а моего в пятницу, так как к его докладу Государь отнесется проще, чем к нашему, будучи уже раздражен, в особенности против Макарова, за его отношение к печатным разоблачениям, и несомненно недоволен и мною за то, что я высказал Ему еще ране те же мысли по поводу мер воздействия на печать.
В воскресенье 1-го февраля вечером Бар. Фредерике сказал мне по телефону по-французски: "Я имел длинный разговор сегодня; очень раздражены и расстроены и совсем не одобряют нашу точку зрения. Жду Вас до пятницы".
Я приехал к нему в среду днем и застал старика в самом мрачном настроении. В довольно бессвязном пересказе передал он мне его беседу, которая ясно указывала на то, что Государь крайне недоволен всем происходящим, винит во всем Государственную Думу и, в частности, Гучкова, обвиняет Макарова в "непростительной слабости", решительно не допускает какого-то ни было принуждения Распутина к выезду и выразился даже будто бы так: "Сегодня требуют выезда Распутина, а завтра не понравится кто-либо другой и потребуют, чтобы и он уехал". На кого намекал Государь, Фредерике так и не понял».
Мемуары Коковцова подтверждает и А. А. Мосолов: «Вскоре после известной беседы Коковцова с Царем о Распутине, Фредерике решился говорить с Государем на тот же предмет и долго к этому готовился. Но ему не удалось высказать всего, что хотел, так как Император с первых слов его остановил, сказал: "Милый граф! Со мной уже много говорили о Распутине… Я вперед знаю все, что Вы можете мне сказать… Останемся друзьями, но об этом больше не говорите"… Много позднее Фредерике пытался вернуться к этой теме, но опять без результата, встретив еще более сильный отпор. Лица менее влиятельные, чем Фредерике, просто вылетали со службы за малейшее проявление непочтения к старцу».
«Закончилась наша беседа тем, что Бар. Фредерике все же выразил надежду, что Макарову и мне удастся уговорить Государя, а сам он предполагает переговорить лично с Императрицей, — писал Коковцов. — Доклад Макарова в четверг кончился ничем. При первых словах Макарова, посвященных Распутинскому инциденту, Государь перевел речь на другую тему, сказавши ему: "Мне нужно обдумать хорошенько эту отвратительную сплетню, и мы переговорим подробно при Вашем следующем докладе, но я все-таки не понимаю, каким образом нет возможности положить конец всей этой грязи".
Ту же участь имели и мои попытки разъяснить этот вопрос на следующий день — в пятницу. Я успел, однако, высказать подробно, какой страшный вред наносит эта история престижу Императорской власти и насколько неотложно пресечь ее в корне, отнявши самые поводы к распространению невероятных суждений. Государь слушал меня молча, с видом недовольства, смотря по обыкновению в таком случае в окно, но затем перебил меня словами: "Да, нужно действительно пресечь эту гадость в корне, и я приму к этому решительные меры. Я Вам скажу об этом впоследствии, а пока — не будем больше об этом говорить. Мне все это до крайности неприятно"».