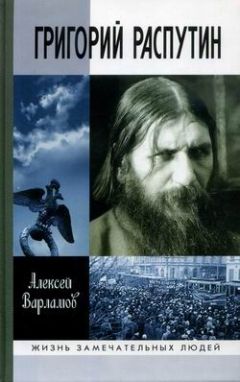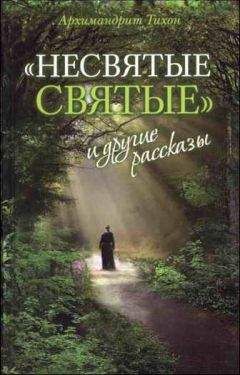Ту же участь имели и мои попытки разъяснить этот вопрос на следующий день — в пятницу. Я успел, однако, высказать подробно, какой страшный вред наносит эта история престижу Императорской власти и насколько неотложно пресечь ее в корне, отнявши самые поводы к распространению невероятных суждений. Государь слушал меня молча, с видом недовольства, смотря по обыкновению в таком случае в окно, но затем перебил меня словами: "Да, нужно действительно пресечь эту гадость в корне, и я приму к этому решительные меры. Я Вам скажу об этом впоследствии, а пока — не будем больше об этом говорить. Мне все это до крайности неприятно"».
Тем не менее в результате всех этих неприятных бесед и консультаций был избран своего рода нулевой вариант. Всех участников декабрьского скандала — Гермогена, Илиодора и Григория — было решено удалить из столицы, и на тот момент это было самое разумное решение. Но прежде произошли две встречи Распутина с высшими должностными лицами Империи, и описание этих встреч — еще два штриха к портрету человека, чье имя знала теперь вся страна от Варшавы до Владивостока.
«В тот же самый день я был поражен получением письма от Распутина, содержавшего в себе буквально следующее:
"Собираюсь уехать совсем, хотел бы повидаться, чтобы обменяться мыслями; обо мне теперь много говорят — назначьте когда. Адрес Кирочная 12 у Сазонова". Своеобразная орфография, конечно, мною не удержана. Первое движение мое было вовсе не отвечать на письмо и уклониться от этого личного знакомства. Но подумавши, я решил все-таки принять Распутина как потому, что положение Председателя Совета обязывало меня не уклоняться от приема человека, взбудоражившего всю Россию, так и потому, что при неизбежном объяснении с Государем мне важно было сослаться на личное впечатление <…> Когда Р. вошел ко мне в кабинет и сел на кресло, меня поразило отвратительное выражение его глаз. Глубоко сидящие в орбите, близко посаженные друг к другу, маленькие, серо-стального цвета, они были пристально направлены на меня, и Р. долго не сводил их с меня, точно он думал произвести на меня какое-то гипнотическое воздействие или же просто изучал меня, видевши меня впервые. Затем он резко закинул голову кверху и стал рассматривать потолок, обводя его по всему карнизу, потом потупил голову и стал упорно смотреть на пол и — все время молчал. Мне показалось, что мы бесконечно долго сидим в таком бессмысленном положении, и я, наконец, обратился к Р., сказавши ему: "Вот Вы хотели меня видеть, что же именно хотели Вы сказать мне. Ведь так можно просидеть и до утра".
Мои слова, видимо, не произвели никакого впечатления. Распутин как-то глупо, делано, полуидиотски осклабился, пробормотал: "Я так, я ничего, вот просто смотрю, какая высокая комната" и продолжал молчать и, закинувши голову кверху, все смотрел на потолок. Из этого томительного состояния вывел меня приход Мамантова. Он поцеловался с Распутиным и стал расспрашивать его, действительно ли он собирается уехать домой. Вместо ответа Мамантову, Распутин снова уставился на меня в упор обоими холодными, пронзительными глазами и проговорил скороговоркой: "Что ж уезжать мне, что ли. Житья мне больше нет и чего плетут на меня". Я сказал ему: "Да, конечно, Вы хорошо сделаете, если уедете. Плетут ли на Вас, или говорят одну правду, но Вы должны понять, что здесь не Ваше место, что Вы вредите Государю, появляясь во дворце и в особенности рассказывая о Вашей близости и давая кому угодно пищу для самых невероятных выдумок и заключений". "Кому я что рассказываю, — все врут на меня, все выдумывают, нешто я лезу во дворец, — зачем меня туда зовут", — почти завизжал Распутин.
Но его остановил Мамантов, своим ровным, тихим, вкрадчивым голосом: "Ну, что греха таить, Григорий Ефимович, вот ты сам рассказываешь лишнее, да и не в том дело, а в том, что не твое там место, не твоего ума дело говорить, что ты ставишь и смещаешь Министров, да принимать всех, кому не лень идти к тебе со всякими делами, да просьбами и писать о них, кому угодно. Подумай об этом хорошенько сам и скажи по совести, из-за чего же льнут к тебе всякие генералы и большие чиновники, разве не из-за того, что ты берешься хлопотать за них? А разве тебе даром станут давать подарки, поить и кормить тебя? И что же прятаться — ведь ты же сам сказал мне, что поставил Саблера в Обер-Прокуроры, и мне же ты предлагал сказать Царю про меня, чтобы выше меня поставил. Вот тебе и ответ на твои слова. Худо будет, если ты не отстанешь от дворца, и худо не тебе, а Царю, про которого теперь плетет всякий кому не лень языком болтать".
Распутин во все время, что говорил Мамантов, сидел с закрытыми глазами, не открывая их, опустивши голову, и упорно молчал. Молчали и мы, и необычайно долго и томительно казалось это молчание. Подали чай. Распутин забрал пригоршню печенья, бросил его в стакан, уставился опять на меня своими рысьими глазами. Мне надоела эта попытка гипнотизировать меня, и я ему сказал просто: "Напрасно Вы так упорно глядите на меня, Ваши глаза не производят на меня никакого действия, давайте лучше говорить просто и ответьте мне, разве не прав Валерий Николаевич (Мамантов), говоря Вам то, что он сказал". Распутин глупо улыбнулся, заерзал на стуле, отвернулся от нас обоих в сторону и сказал: "Ладно, я уеду, только уж пущай меня не зовут обратно, если я такой худой, что Царю от меня худо".
Я собирался было перевести разговор на другую тему. Стал расспрашивать Распутина о продовольственном деле в Тобольской губернии — в тот год там был неурожай, — он оживился, отвечал очень здраво, толково и даже остроумно, но стоило только мне сказать ему: "Вот, так-то лучше говорить просто, можно обо всем договориться", как он опять съежился, стал закидывать голову или опускал ее к полу, бормотал какие-то бессвязные слова "ладно, я худой, уеду, пущай справляются без меня, зачем меня зовут сказать то, да другое, про того, да про другого…". Долго опять молчал, уставившись на меня, потом сорвался с места, и сказал только "ну, вот и познакомились, прощайте" и ушел от меня. Мы остались с Мамантовым вдвоем, пришла в кабинет жена и стала меня расспрашивать о моих впечатлениях. Помню хорошо и теперь то, что я сказал тогда по горячим следам, что повторил через день Государю и повторяю себе и теперь.
По-моему Распутин типичный сибирский варнак, бродяга, умный и выдрессировавший себя на известный лад простеца и юродивого и играющий свою роль по заученному рецепту.
По внешности ему не доставало только арестантского армяка и бубнового туза на спине.
По замашкам — это человек, способный на все[37]. В свое кривляние он, конечно, не верит, но выработал себе твердо заученные приемы, которыми обманывает как тех, кто искренно верит всему его чудачеству, так и тех, кто надувает самого своим преклонением перед ним, имея на самом деле в виду только достигнуть через него тех выгод, которые не даются иным путем».