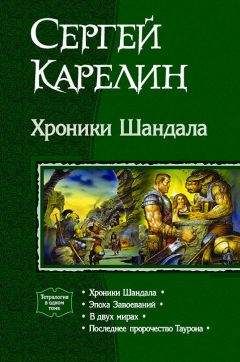— Ваше благородие, — писарь поднимает слипающиеся глаза, — докладывают насчет прапорщика линейного нумер десять батальона господина Бестужева…
— Докладывают — исполняй.
— Их превосходительство генерал Вольховский сказали…
— Не тебе сказали — не твоя забота.
В раздел «убиты» писарь вносит прапорщика «Безстужева».
— Дурак ты, дурак, — сокрушается капитан Агеев. Он помнит: Бестужев писался только через «с». Но какое это имеет значение… Командующий не выносит помарок, из-за лишней буквы затевать новую ведомость — не резон.
— Дурак ты, дурак, — досадливо повторяет Агеев, щелкая гравированной крышкой часов. Длинный, однако ж, день. — И песня твоя дурацкая: «Словно стадо лебедей, лебедей…» — передразнил капитан.
Писарь спешил кончить ведомость, — спать хотелось нестерпимо; свеча чадила, фитилек дрожал, догорая.
К легендам, клубившимся вокруг имени Шамиля, прибавилась новая: отныне у него помощником русский офицер, обратившийся в магометанство.
Перебежчики — не редкость. Но этот не такой, как все: был знаменитым писателем, теперь начальствует над черкесской артиллерией, издает в горах газету…
Линейный казак повстречал сподвижника Шамиля и узнал его: Бестужев! Глаза черные, усы густые; малость постарел, однако на карабахском жеребце сидит молодецки, песню поет про лебедей. Наказал, чтоб его не искали, отныне он русским чужой…
Очевидец вызвал недоверие; ранее пронесся слух, что Бестужев не помощник Шамиля, а и есть сам Шамиль.
В целях установления истины казака заперли в «холодную», и вскоре он усомнился в своей встрече. Если начистоту, то не он видел черноглазого перебежчика на коне, знакомый матрос сказывал…
Меж тем поступали новые подробности.
Офицер, попавший в плен, живет, не тужит в Лазистане, привечаем туземцами, у него пять жен, одна — редкостная красавица. От родины не отрекся, от сочинительства не отказался; допишет повесть, вернется в Петербург, посрамит своих недругов.
В других устах эта история, сохраняя за Бестужевым место жительства в Лазистане, звучала более воинственно: собрал шайку головорезов, разбойничает на дорогах…
Вести были противоречивы и тревожны. Командование отрядило курьера договориться о выкупе. Черкесы получат за Бестужева двести пудов соли.
Горцы несказанно обрадовались, — они не чаяли избавиться от прапорщика, спьяну угодившего к ним в руки и смертельно всем надоевшего. Они пьянчугу Вышеславцева без всякой соли отдадут…
Путаница это! Вышеславцев ни при чем. Бестужев послал с нарочным бумагу главнокомандующему: он-де в плену, но не изменил родине и вере отцов. Связному велено скакать обратно, вручить пленному засургученный пакет с коротким распоряжением: «Александру Бестужеву не сметь возвращаться до полного покорения Кавказа, иначе он сгниет в крепости».
Но и эта версия, вовлекшая в легенду командующего и сановных лиц (письмо Бестужева с фельдъегерем якобы отправлено в Петербург), вызвала протест. У Бестужева, возмущались опровергатели, совсем другой жребий. Он укрылся отшельником в глухих горах, где именно, знает лишь его воспитанница, юная черкешенка Нина, — сирота, подобранная им, когда сожгли аул. Иногда к ней в хижину наведывается Искандер-бек. Иногда Нина, боготворившая своего спасителя, отправлялась к нему вместе со здоровенным рыжим псом, носившим странную кличку — Декабрь. Так и жили эти двое — беглый русский офицер и юная черкешенка, — отгороженные своей тайной от всех людей. Потом офицер уехал за границу, у девушки с горя помутился рассудок, она умерла…
* * *
…Писарь, составлявший «Ведомость убитым и раненым», напевая про стадо лебедей, споткнулся перед фамилией Бестужева неспроста. На сырой адлерской земле тела Бестужева не нашли. Рассказы очевидцев его гибели столь между собой несхожи, что принять их за чистую монету — принять грех на душу.
Обычный обряд, именуемый «обмен телами», ничего не дал, — трупа Бестужева не было. Оставалось допустить, будто он изрублен в куски (кто-то видел, как папахи с саблями накинулись на упавшего офицера). Допущение обрастало деталями. У кого-то из горцев видели пистолеты Бестужева, кто-то вроде бы продавал его перстень…
Все расплывчато, шатко. Только бездыханное тело, преданное земле, подтверждает смерть. Когда такого доказательства нет, плодятся сомнения, надежды, апокрифы.
Бестужева не раз хоронили, сам он не раз предрекал свою кончину, и теперь люди не мирились с его гибелью. Слишком долго, назло всем смертям, он искал приключения.
То, что он искал покоя, безмерно устал от гонений и недугов, известно было единицам.
Слухи, один невероятнее другого, распространялись, начиная с закатного часа, когда Бестужев исчез. Свидетелям несть числа, среди них и такие, кто не участвовал в адлерском десанте…
Для офицера-кавказца раньше было достаточно выдать себя за друга Бестужева, и распахивались двери именитых домов Петербурга, Москвы. С июня тридцать седьмого года таким магическим действием обладало заверение: «Я видел смерть Марлинского».
Мемуаристы-ветераны подхватили россказни, каждый в меру собственного воображения расцвечивал свои записи. Не отставали и беллетристы, соблазненные головокружительными сюжетами. Интерес не угасал, апокрифы множились.
Еще когда история Ольги Нестерцовой, украшенная бесконечными домыслами, гуляла по жаждущим сплетен петербургским гостиным, Бестужев, философствуя, написал Ксенофонту Полевому: люди так любят все чудесное; естественный ход вещей для них не в угоду.
Естественный ход вещей слишком уныл, Бестужев взламывал его. Своей судьбой, зычными командами на Петровской площади, резким, как удар клинка, письмом императору, сочинениями, манящими в романтическую даль, где невероятное сопутствовало беспощадно обыденному. За цветистыми строками вставал человек, упрямо одолевавший неодолимые преграды. Победитель в проигранном сражении. Смерть, вызвав небылицы, тоже оборачивалась победой.
В легендах этих Бестужев упорно продолжает самого себя, своих героев, писателя, покорившего читающую Россию под прозрачной маской Марлинского. Воплощались не успевшие воплотиться возможности, исправлялось оставшееся позади; колебания, терзавшие его ум и душу, возрождались легендами. Можно сомневаться в их достоверности, отрицать ее, но логическая вероятность каждой вне сомнения.
Легендарный Марлинский совершал то, что мог совершить Бестужев, сохранив вольнолюбивые идеалы и любвеобильное сердце. Кто за него поручится, кто знает наверняка, как распорядился бы он собой, если бы не искал и не нашел смерть в душных, словно парники, чащобах летнего Адлера.