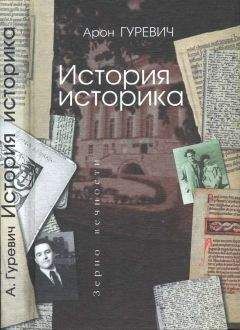Человеческая личность не была впервые открыта в эпоху Возрождения, как утверждали Мишле и Буркхардт, или во времена «Возрождения XII века», как полагают некоторые другие исследователи (например, К. Моррис). Структура и самосознание личности были глубоко своеобычны в разные эпохи, но отрицать ее существование в какие‑либо периоды истории означало бы игнорировать самое проблему. Подлинная история человеческого индивида имеет мало общего с картиной постепенного развития от «родового существа», якобы всецело поглощенного родом, племенем, сословием, к автономному члену атомизированного общества Нового времени.
Не поразительно ли то, что наиболее глубокое проникновение в собственное «Я» имело место не в пору Ренессанса, но на рубеже Античности и Средневековья — в «Исповеди» Аврелия Августина? Но не менее поразительно и другое наблюдение, которого не могли сделать мои предшественники, игнорировавшие, как уже подчеркивалось, скандинавские памятники: на острове, удаленном от континента Европы, не знавшем городских поселений, равно как и государства, на протяжении столетий создавалась и культивировалась словесность, тексты которой рисуют нам ярко выраженные личности, в том числе и творческие. Я имею в виду, разумеется, Исландию с ее сагами и поэзией скальдов.
Я уже говорил о проповедях Бертольда Регенсбургского и, в частности, о его рассуждении о человеческой персоне как первейшем и главнейшем даре Господа каждому человеку. Если средневековые богословы и схоласты рассуждали о персоне преимущественно или даже исключительно как о Божественных ипостасях, то этот францисканский монах, обращаясь к простым верующим, впервые в средневековой мысли рассматривает, по сути дела, личность человеческую, причем, по его убеждению, persфne есть неотъемлемое качество всякого индивида.
Я не собираюсь излагать здесь концепцию книги о средневековом индивиде, но хотел бы лишь подчеркнуть: я шел к постановке этой проблемы на протяжении трех, если не четырех десятилетий. Далеко не сразу я полностью осознал ее смысл и значимость. Но ведь когда мы обсуждаем вопрос о миросозерцании средневековых людей, об их представлениях о времени — пространстве, о природе, о смерти и потустороннем мире, о праве, о социальной структуре, о богатстве и бедности, о грехе, чуде и святости, о смехе и страхах и т. д. и т. п., то по сути дела мы не можем не предполагать наличия некоего ядра, центра, с которым связаны все эти и многие другие проявления менталитета. Это ядро — человеческая личность, ее и нужно изучать во всем своеобразии и неповторимости, каковыми она обладала в контексте средневековой культуры.
Я полностью отдаю себе отчет в том, что проблему личности в средневековой Европе легче поставить, нежели решить, но постановка этой проблемы давно назрела, и к ее рассмотрению ныне обратился ряд историков.
Я уже не раз говорил, что при написании той или иной статьи или книги для меня очень важным было представить себе читательскую аудиторию. Переработка книги для отечественного читателя побудила меня по — новому взглянуть на многие стороны проблемы. Мы живем в обществе, в котором еще сравнительно недавно личность считалась поглощенной коллективом и самое понятие «индивидуализм» носило однозначно негативный смысл.
Ныне положение изменилось, личность и ее права, хотя бы теоретически, получают признание. Будущее нашего общества, естественно, воплощенное в новых поколениях, зависит от того, в какой мере каждый его член обретет самосознание, чувство личной ответственности и внутреннюю независимость. А потому и историческое сознание не может обойти вопроса о человеческом индивиде.
* * *
Случилось так, что работа над книгой об индивиде в средневековой Европе и написание этих мемуаров совпали во времени. Конечно, такое совпадение едва ли случайно. Размышления над судьбами людей совсем другой, давно миновавшей эпохи и попытка очертить собственный жизненный путь, несомненно, питаются из единого источника.
Работая над книгой о средневековом индивиде, я заметил, что в «Истории моих бедствий» Абеляр почти совершенно не упоминает своих друзей, между тем как известно, что долгие годы он был включен в плотную сеть человеческих контактов. Почему я об этом вспомнил? В моих мемуарах отсутствуют имена очень многих людей, с которыми я дружил или был близко знаком. Но логика изложения событий побудила меня воздержаться от рассказа о целом ряде коллег и друзей, к которым я был и остаюсь привязан. Я надеюсь, что они это поймут. К сожалению, жизнь моя развертывалась таким образом, что я то и дело приходил в столкновения в «боях за историю» со своими оппонентами и недоброжелателями. Им‑то чаще всего и удавалось попасть на страницы моего повествования. Отсюда некоторое смещение света и тени в пользу последней.
Жизнь заканчивается, пора подводить итоги. Но я не поступлю так, ибо это уже не моя забота. Но все же я хотел бы надеяться, что ибсеновский Пуговичник, верно, поджидающий со своей ложкой на последнем перекрестке, не заставит меня идти в переплавку. Я сделал, что сумел, конечно, не все из намеченного, но по крайней мере старался не увильнуть от своей судьбы. Может быть, кто‑нибудь из тех, кто меня вспомнит, скажет: «Ты славно роешь, старый крот».
Ноябрь 1999 года — апрель 2000 года — август 2000 год
Со времени написания «Истории историка» минуло три года. Жизнь продолжалась, и кое — какие факты следовало бы здесь упомянуть. Мне не пришлось сидеть сложа руки. Я в основном завершил работу над монографией, посвященной истории человеческой личности на средневековом Западе. Она представляет собой принципиально новую редакцию текста, написанного десятью годами ранее и предназначенного для издаваемой Жаком Ле Гоффом серии книг под общим названием «Строить Европу». Как и другие тома этой серии, моя книга опубликована в переводах на ряд языков, но когда я задумался над необходимостью подготовить ее для русского издания, то стало ясно, что она нуждается в глубокой переработке и резком расширении объема. Дело в том, что в среде отечественных историков идет, по временам обостряясь, полемика, в ходе которой кое — кем оспаривается возможность говорить о человеческой личности в эпоху, предшествовавшую Ренессансу. Я убежден в противоположном. Разумеется, человеческая индивидуальность в Средние века была существенно иной, нежели индивидуальность человека Нового времени. Задача, следовательно, заключается, прежде всего, в том, чтобы выяснить особенности структуры и статуса личности в ту эпоху, а не спорить о применимости этого понятия к Средневековью.