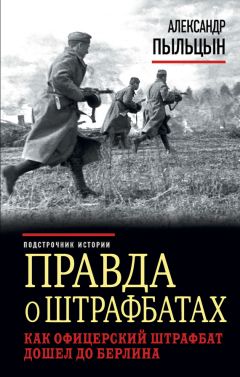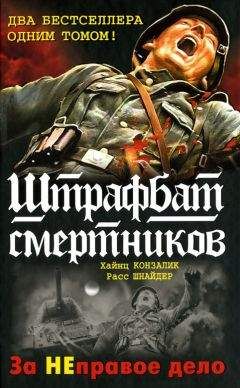Рассуждения о могилах долго не оставляли меня. Конечно, никому не хотелось после собственной гибели истлеть в чужой земле: ни холмика, ни кустика. Ни присесть родным, ни цветок положить, ни былинку выросшую потрогать. Это почти то же, что сгинуть в водной пучине чужой реки. А мне удалось избежать этого. Судьба. Счастье. Опять невероятное везение!
Через несколько дней я уже вставал, а Рита, включившаяся в бесконечный ритм работы госпиталя, теперь едва успевала подбегать ко мне хотя бы раз-два в день, помогая сестринскому персоналу госпиталя.
Здесь, в госпитале, меня поразил случай удивительной жизнеспособности одного солдата, раненного тоже в голову. Соседи по нарам, на которых почти вплотную были размещены раненые, обратили внимание на то, что этот солдат, не приходя в сознание, постоянно, в течение более суток, стучал пальцами одной руки по краю деревянной перекладинки нар, будто что-то хотел этим сказать. Один из раненых, видимо телеграфист, догадался, что тот перестукивает что-то похожее на азбуку Морзе. И расшифровал этот перестук: он просит принять донесение. Тогда близко лежащий усатый сержант посоветовал: «Отстучи ему, что донесение принято, может, успокоится». И тот «отстучал» по пальцам этого несчастного. И он действительно успокоился. А через 15 минут его сердце перестало биться. Жил-то он все это время в госпитале со своей смертельной раной только ради выполнения солдатского долга. Выполнил – и умер. Какая потрясающая сила духа держала его на этом свете!
Спустя еще несколько дней я стал уговаривать Риту вернуться в батальон. Во-первых, чтобы ее не сочли дезертиром (ведь она убежала без позволения!), во-вторых, чтобы сообщить, где я, и передать так и не отправленное донесение с плацдарма, в-третьих – узнать, чем закончилось дело на так дорого доставшемся нам клочке земли за Одером, и в-четвертых – чтобы приехали за мной. Мне нужно успеть к взятию Берлина!
Как она добиралась до батальона, не знаю, но скоро снова оказалась в этом госпитале. Мы тут же пошли к начальнику госпиталя просить о выписке.
Поскольку Рита уже была с ним хорошо знакома, много помогала по уходу за ранеными и поскольку этот начальник всего день тому назад сказал, что представляет ее к ордену Красной Звезды, она смело пошла к нему, захватив меня. Он неожиданно согласился, сказав, что такой медсестре он меня вполне доверяет.
На сборы – секунды! Мы вышли на залитый солнцем двор, где стояла какая-то вычурная четырехколесная пролетка на рессорах с впряженной в нее молодой гнедой лошадью. И мы, не теряя времени, получив у начпрода на двое суток хлеба и консервов, тронулись в путь.
Удивительно приятной была эта поездка. Я уже и не помнил, приходилось ли мне так вольготно передвигаться.
По дороге Рита рассказала батальонные новости. Главное – плацдарм удержали. После моего ранения, оказывается, отбили еще несколько контратак, к вечеру саперы навели наплавной мост для пехоты и легкой артиллерии. И к нашей геройской штрафной десятке присоединилось то пополнение, с которым был мой «дублер» Слаутин и несколько командиров взводов, в том числе лейтенант Костюков Алексей Иванович и младший лейтенант Кузнецов Евгений Иванович. Это тот самый Кузнечик, который, несмотря на свою уж очень «девичью» внешность и не очень командирский голос, в боях за Альтдамм проявил себя способным командовать штрафниками. Кроме того, туда же были переправлены и оставленные мной на правом берегу бронебойщики и пулеметчики. Все они смогли расширить захваченный плацдарм. В первом же бою Костюков был ранен. Направлено 16 переменников от лейтенанта до майора. И это было не последнее пополнение в мою роту. А Кузнечику повезло, он счастливо провоевал до того времени, когда рота была выведена из боя.
Рите, когда она одна вернулась из госпиталя, вначале не поверили, что я жив… Кто-то из друзей шепнул ей тогда, что уже заготовлены похоронка и документы о представлении меня посмертно к званию Героя Советского Союза и ждали только ее возвращения, чтобы удостовериться. У меня двоякое чувство возникло от этой вести: и вроде очень приятно, но лучше уж, коль остался жив, то прижизненно, а не посмертно. А если посмертно – то очень достоин этого, хотя и штрафник, летчик, по-моему, капитан Смешной! Пусть бы это был за всю войну в боевой истории нашего 8-го штрафбата единственный, но показательный случай штрафника-Героя. Своей героической смертью, считал я, он это высокое звание заслужил.
Однако радость переполняла меня не от этого сообщения, а оттого, что я жив и что третью похоронку, теперь уже на последнего, младшего сына, моя мама не получит, что вот этим весенним днем под веселый цокот копыт я еду по дороге, местами густо обсаженной цветущими деревьями. Как прошлой весной в Белоруссии. Даже красивее, наверное, потому, что весна эта, по всему видно, победная!
И вообще казалось временами, будто нет уже войны, такая благодать! Навстречу нам то и дело попадались группы освобожденных из плена, концлагерей и фашистского рабства – мужчины и женщины, и даже дети, исхудавшие, изможденные, но со счастливыми улыбками и оттаявшими взглядами. Они приветливо махали нам руками и кричали слова благодарности.
По понтонному мосту мы переправились через широкую, ныне спокойную гладь Одера, но совсем не там, где мы его форсировали. И я, наконец, догадался спросить Риту, куда же мы едем, как и где найдем свой батальон. Она сказала, что часть дороги ей уже знакома, а потом достала карту, которую дал ей Филипп Киселев, наш начштаба. На карте этой жирным красным карандашом был обозначен (или, как у военных принято говорить, «поднят») маршрут до какого-то городка. А там мы должны будем спросить у военного коменданта дорогу, если не застанем своих.
Не буду описывать всей этой длинной дороги, коснусь только нескольких примечательных событий на нашем пути. Выехали мы из госпиталя, кажется, 28 апреля, а батальон догнали к середине дня 1 мая где-то за городом Фрайенвальде, в одном из северных пригородов Берлина.
Почти в каждом доме, да и почти из каждого окна свешивались большие белые флаги-простыни в знак безоговорочной капитуляции. На улицах уже появилась немногочисленная ребятня, усиленно загоняемая взрослыми в дома, как только появлялись наши военные машины, везущие солдат, и другая техника, а тем более – танки.
Иногда попадались и большие колонны монотонно шаркавших ногами, понуро шагавших пленных немцев под конвоем советских солдат. Скорбно глядели на эти толпы местные жители. Я почему-то не заметил ни одного случая, чтобы какая-нибудь сердобольная «фрау» попыталась передать краюху хлеба или картофелину пленному, как это бывало, даже под угрозой конвоиров, когда фашисты гнали по украинским или белорусским селам наших солдат, попавших в плен. Ну что же, у каждой нации свой, как теперь принято говорить, менталитет, своя широта души.