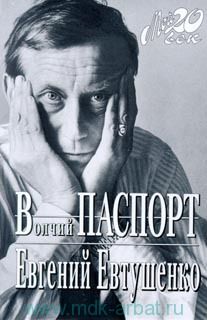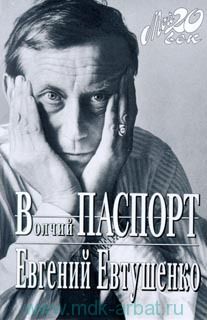Честно говоря, сжечь классные журналы я был способен, если бы меня сильно разозлили. Но там произошло кое-что похуже — кто-то стукнул старика сторожа по голове, а вот этого я сделать не мог.
Исак Брисыч был человек по-военному прямолинейный. Это хорошее качество и одновременно опасное. Нет ничего более хрупкого, чем железная логика.
Он созвал общее собрание и несколько часов подряд просил, требовал, чтобы виновник сам признался. Взамен Исак Брисыч обещал полное прощение.
Все молчали. Сначала он обходил меня взглядом, видимо борясь с собой. Было даже неестественно, что он смотрит на всех, за исключением меня, расхаживая перед нами в сапогах, пронзительно скрипящих среди общей тишины. Я почувствовал, что он смотрит на меня, даже не глядя.
— Я не хочу, чтобы вы доносили на ваших товарищей, — говорил он. — Я презираю стукачей. Доносительство — это трусость. Я прошу у того, кто это сделал, честности перед собой и другими. Если вы будете молчать, я сам сейчас назову предполагаемого виновника. Но ведь я же могу ошибиться, и молчание настоящего виновника будет равносильно ложному доносу на товарища. Ну, наберитесь наконец мужества!
Потеря терпения и логика постепенно заставили его сконцентрировать взгляд на мне. Этот взгляд уговаривал, убеждал, приказывал мне признаться. Наконец Исак Брисыч не выдержал и ткнул в меня пальцем, впервые назвав меня не Женей, как обычно, а по фамилии:
— Евтушенко, это сделал ты!
— Нет, — сказал я поднявшись. — Я этого не делал.
— Ты! Ты! Ты! — повторял он в ярости то ли на меня за выдуманную им мою трусость, то ли на себя от боязни того, что сейчас совершает непоправимую ошибку.
На следующий день я был исключен из школы.
Прежде чем я вообще получил какой-либо «человеческий» паспорт, у меня оказался «волчий».
«Волчий паспорт» — это выражение еще дореволюционное.
В царской России это означало документ о неблагонадежности, закрывающий доступ на государственную службу, в учебные заведения. В советское время «волчьим паспортом» называли официальную отрицательную характеристику, выдаваемую или школой, или институтом, или профсоюзом, или комсомольской или партийной ячейкой. Совсем без характеристики ткнуться было некуда, а с такой характеристикой — тем более.
Но были люди, которые поверили в меня, давали почитать умные книги, не позволившие мне — даже с «волчьим паспортом» — стать волком.
Все мы — произведения тех, кто в нас верит. Мой отец, поэты А. Достань, Н. Тарасов, критик В. Барлас, прозаик, будущий великий футбольный обозреватель JI. Филатов написали вместе со мной то лучшее, что написал я. Впоследствии меня «дописывали» Вл. Соколов, А. Межиров, Б. Слуцкий.
Когда мне было пятнадцать лет, в газете «Советский спорт» напечатали мое первое, глупенькое, звучащее сейчас пародийно стихотворение, начинавшееся так:
Под грохот трещоток дробный в залах,
где воздух сперт, ломаются
руки
и ребра —
и это у них
спорт!
До сих пор не могу понять, как Николай Тарасов, которому я принес эту детсадовщину, мог догадаться, что на меня стоит тратить время. А он догадался.
В 1952 году вышла моя ходульно-романтическая книжка «Разведчики грядущего», но затем из бумажного моря выдуманных стихов о выдуманных людях стали время от времени выныривать настоящие стихи, как нерпы выныривают из грязных нефтяных разводов на байкальской воде.
Меня начали читать, переписывать в тетрадки, запоминать. Однажды позвонил Исак Брисыч:
— Читаю тебя, горжусь. Очень понравилось «О, свадьбы в дни военные…», «Окно выходит в белые деревья», «Зависть»… Хотя, честно скажу, мне было бы легче, если бы ты писал плохо… Я ведь тебя все-таки исключил… Ты на меня зла не держишь, Женя?
— Ну что вы, Исак Брисыч… Логически вы ведь были правы…
— Что значит — логически? — несколько оторопел он.
— А то, что я не крал этих журналов.
Ответом мне было продолжительное молчание в трубке.
— Неужели ты и сейчас не хочешь в этом признаться? Ну хорошо, давай об этом не будем… У нас через неделю вечер встречи выпускников. Приезжай, почитаешь стихи. Выпьем немножко, потрепемся…
— Да я же не выпускник, а вышибник…
— Опять ты за свое. Разве можно быть поэту злопамятным…
Я приехал, и мы искренне обнялись.
И вдруг случилось нечто непредвиденное.
Один мой одноклассник по кличке Пряха, впоследствии ставший членом-корреспондентом Академии наук, сказал после нескольких глотков теплой водки из бумажного стаканчика:
— Ребята, я хочу у Жени, у Исак Брисыча и у всех вас попросить прощения. Это я тогда сжег классные журналы…
Все так и застыли.
— Но почему ты это сделал? — вырвалось у Исака Брисыча. — Ты же был всегда круглым отличником!
— Я первый раз в жизни получил пятерку с минусом, — виновато, но в то же время как бы оправдательно пожал плечами Пряха. — А я к минусам не привык…
— Ну что же ты раньше об этом не сказал, сукин ты сын… — зашумели мои бывшие одноклассники. — Что же ты молчал в тряпочку, когда парня вышвыривали на улицу!
— Но я же в конце концов признался. Лучше поздно, чем никогда. За что вы на меня так набросились?.. Все-таки надо ценить муки совести… — вставая и надевая шляпу оскорбленно сказал Пряха.
— Даже запоздалые? — язвительно спросил кто-то.
— Запоздалых мук совести нет… — с достоинством обронил афоризм будущий член-корреспондент Академии наук, удаляясь.
Но меня он заинтересовал гораздо меньше, чем Исак Брисыч.
Я никогда не представлял раньше, что Исак Брисыч способен плакать. Он плакал не глазами — он плакал плечами.
— Почему я тебе не поверил тогда, по-че-му? Почему я тебе выписал «волчий паспорт»… Ты мог бы от отчаянья стать вором, и, кто знает, может быть, убийцей… Эго я бы тебя сделал таким, я… Какая страшная ошибка… — судорожно вырывалось у него.
После тех «посиделок» я больше не видел Исак Брисыча.
Недавно на Ваганьковском, совсем близко от могилы отца, я вдруг вздрогнул, прочитав четыре строки из моего стихотворения «Марьина Роща», высеченные на чьем-то могильном камне:
Поняли мы в той школе цену и хлеба и соли, и научились у голи гордости вольной воли.
Надпись на камне гласила: «Исаак Борисович Пирятинский. Педагог».
Шестьдесят лет прошло с той поры, когда моя детская рука нацарапала в ученической тетрадке в клеточку что-то похожее на стихи:
Я проснулся рано-рано и стал думать — кем мне быть.
Захотел я стать пиратом, грабить корабли.
У Багрицкого в «Контрабандистах» налицо явное раздвоение намерений: «Вот так бы и мне в налетающей тьме усы раздувать, развалясь на корме…» и уж совсем наоборотное: «Иль правильней, может, сжимая наган, за вором следить, уходящим в туман…».
У того пятилетнего сорванца никакого дуализма: «следить» за кем-то — это ему чуждо.
Признаюсь, что до сих пор в лермонтовской «Тамани» своей рисковостыо и вольным духом девушка и слепой мальчишка мне нравятся больше, чем красиво, но осторожно рефлектирующий офицер.
Короче говоря, тогдашнему мальчику смертельно хотелось приключений — и не октябрятско-пионерских, благословляемых педагогическими надзирателями, а приключений строго-настрого не рекомендуемых.
Но мало ли кому хочется приключений в детстве, а я растянул их на всю жизнь, да и сейчас от них не откажусь. Пиратство и грабеж кораблей в той детской декларации независимости —· лишь условный знак мятежа.
Это жажда опасной, но очаровательной контрабанды свободы, ликующего грабежа впечатлений.
Тогда это был еще инстинкт жизни, а потом он стал самой жизнью.
«Я хотел бы родиться во всех странах, быть всепаспортным, к панике бедного МИДа…» (1972), «И я шел по планете, как будто по Марьиной Роще гигантской…» (1983).
Эти стихи были написаны, когда еще существовали унизительные выездные комиссии. Тогда было невозможно предугадать, что я стану первым депутатом за всю историю СССР, который поставит вопрос об отмене всех этих комиссий.
Такова была моя планида, что в уродливо разделенном надвое мире я начал, насколько хватало силенок, расшатывать и пробивать проржавевший, но все еще железный занавес, продираясь сквозь его дыры с острыми, мстительно ранящими закраинами в украденный у нас остальной мир.
Я всегда любил быть создателем прецедентов. Всегда есть кто-то первый, а за ним идут другие — желательно, не по телу первого.
Все те, кто шагает по людям, будут за это наказаны.
Но не все, кто перешагивает через нас, не правы.
Мы тоже перешагивали через тех, кого любили, чтобы сделать то, чего не смогли сделать они. Но мы не наступали на них.
Больно ошибиться в доверии к людям.
Но не дай Бог ошибиться в недоверии, как ошибся в недоверии ко мне Исаак Борисович Пирятинский.