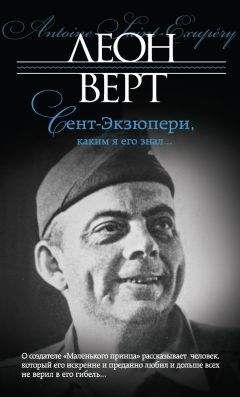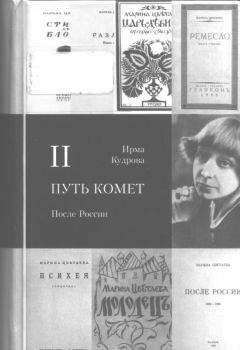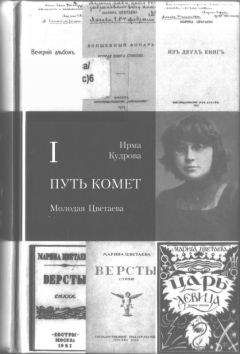Разнообразная деятельность общества включала обслуживание иностранных гостей, приезжавших в СССР, — делегаций и «индивидуалов». Тут часто устраивались приемы, на которых рядом с иностранцами и советскими деятелями разных сфер и рангов всегда толклись журналисты. Переводчики — как, разумеется, и сотрудники НКВД — были здесь постоянными посетителями.
ВОКС был прибежищем многих вернувшихся с чужбины русских: где как не здесь они могли использовать свое чуть ли не единственное преимущество перед другими: хорошее знание французского языка.
Теперь, в июне тридцать девятого, арестовали Нину Мосину — редактора информационного бюллетеня ВОКСа. Она была из бывших эмигрантов, из числа тех, кому помог вернуться на родину Эфрон!
С Мосиной были знакомы и Ариадна, и старший Клепинин, числившийся референтом Восточного отдела ВОКСа, и пасынок Клепинина Алексей Сеземан.
Но обитатели болшевского дома еще не догадываются, насколько опасно для них обвинение, предъявленное арестованной. Ибо обвиняют ее в привлечении на работу в ВОКСе «троцкистских кадров». Понятно, что любой бывший эмигрант наилучшим образом годился под аттестацию такого типа.
Журнал, в котором сотрудничала Ариадна — «Ревю де Моску», — имел с Мосиной самые прямые контакты. А в последние месяцы Ариадна и старший Клепинин как раз усиленно хлопотали об устройстве на работу в редакцию еще одного «кадра»: их приятельницы — Эмилии Литауэр. Она все еще не имела постоянной службы…
Цветаева уже жила в Болшеве, когда стала известна другая новость: 27 июля арестовали еще одного сотрудника ВОКСа — Павла Николаевича Толстого. Он тоже был из числа вернувшихся эмигрантов, тех, с кем во Франции был хорошо знаком Эфрон. Теперь же с ним поддерживали контакт и Ариадна, и Эмилия Литауэр, и Алексей Сеземан — последним двум он давал время от времени переводы для заработка.
Скрыли ли это от Марины Ивановны, оберегая ее от лишних переживаний? Трудно сказать. Хотя знать это было бы важно: насколько с ней теперь были откровенны и муж и друзья мужа?
Бесспорно другое: все эти новости должны были восприниматься Клепиниными и Эфроном не иначе как приближающиеся шаги Командора.
7
Как оценивали на болшевской даче происходящее вокруг?
Насколько расстались с иллюзиями, вывезенными из эмигрантского далека, — о стране социализма и о великом эксперименте? Насколько обольщались еще надеждами? Теперь об этом уже можно сказать с достаточной уверенностью. Свидетельствуют страшные документы эпохи: протоколы допросов. Ибо шестеро из тех, кого видела и слышала Марина Ивановна этим летом под соснами просторного дачного участка, или на террасе дома, или у камина в гостиной, спустя всего три-четыре месяца будут давать показания в кабинетах следователей НКВД.
Приходится, конечно, постоянно иметь в виду принужденность их признаний, возможность выдумок — того, что нельзя даже назвать клеветой, памятуя об условиях, в какие попадали узники советских тюрем. Но все же. Сравнивая показания шестерых, их совпадения и расхождения, соотнося с тем, что из письменных и устных воспоминаний узнаёшь о личности этих людей, все-таки можно отделить сочиненное от реального. И потому теперь уже есть какая-никакая возможность ответить на вопросы, которые еще совсем недавно оставались без ответа.
Помогают в этом и изданные в 2004 году дневники сына Цветаевой.
Вчитываясь в них, уже можно видеть, что процесс осознания реальности у обитателей и гостей болшевского дома шел разными темпами. Наиболее энергично освобождались от заблуждений супруги Клепинины. Нина Николаевна и Николай Андреевич не стесняются говорить о том, что эксплуатация человека вовсе не исчезла, а сталинская конституция — фикция, с которой никто не считается. Они говорят и о низком уровне жизни в стране, о нищенской зарплате за адский труд, о безграмотности и бескультурии советских редакторов журналов и газет, о нелепостях цензурных установок. И о разгуле репрессий. О том, что все друг друга теперь боятся, не на кого опереться и ни в ком нельзя быть уверенным. И что в НКВД все пересажали друг друга…
Сергей Яковлевич и Ариадна не разделяют столь резкой позиции своих недавних сподвижников. Пыльца с крылышек надежд у них еще не облетела. Они спорят с Клепиниными и гораздо более цепко держатся за иллюзии, вывезенные из Франции. Они отказываются верить в неправдоподобное зло, уже открыто правившее великой державой. Поверить и в самом деле было трудно. Изощренность и глобальный размах сталинской дьяволиады очевиден нам, потомкам. И только этим можно объяснить упорное непонимание советского кошмара журналистами, писателями, учеными Запада, приезжавшими в СССР или издали следившими за развитием событий.
Младшие — Мур и Митя — помалкивают, но вслушиваются в эти перебранки. И спустя год будут ссориться друг с другом, отыскивая виновных в том, что вскоре случилось в Болшеве.
Николай Андреевич все чаще выпивает. И теперь ему уже хватает одной рюмки, чтобы потерять контроль над собой. И вот, когда контроль потерян, этот мягкий умница и душевно тонкий человек позволяет себе самые безоглядные высказывания.
Он попросту зло матерится по адресу высших властей и порядков в стране.
Вспоминала ли теперь Нина Николаевна разговор со своими родителями в середине тридцатых годов, когда те приезжали из СССР в Париж на короткое время? Как ужаснулись они, услышав о намерении дочери вернуться с семьей на родину! Как пытались предупредить ее относительно нараставшей в стране волны арестов — и как в ответ весело и упрямо дочь, Нина Николаевна, отвергала все предостережения.
— Детей хоть пожалейте! — услышала она тогда от матери. Но отмахнулась и от этого.
Вернувшись и довольно скоро поняв промашку, Нина Николаевна осталась верна себе: она и на родине — до поры до времени — пыталась жить не по чужой указке.
Как и другим сотрудникам зарубежных советских спецслужб, ей нельзя было выезжать из Москвы без позволения высокого начальства. Но она ездила — и, кажется, не однажды — в Ленинград: повидаться с родней и друзьями. Не полагалось переписываться с заграницей — она делала это, используя любую оказию. Запрещено было говорить непосвященным о своих связях с НКВД (это называлось «расшифровать себя») — Клепинины и с этим запретом мало считались.
Вся их молодость прошла в свободной стране — чужой и неблагополучной, но свободной Франции, — и им была абсолютно непонятна психология тех, кто здесь, в родных краях, уже двадцать с лишним лет подряд, год за годом, в страхе за себя и своих ближних, отвыкал от свободы, внешней и внутренней.