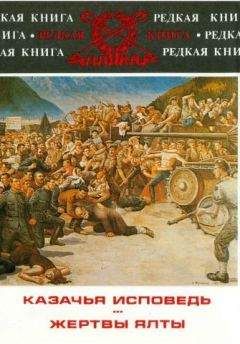Бежал по взвихренной России поезд все дальше и дальше — на запад. От скуки солдаты, а иногда и офицеры стреляли на станциях из наганов в фонари. И вот через несколько веселых дней наш состав подошел к большой, узловой станции Режица, где уже начиналась прифронтовая полоса. Оттуда дивизион, гремя звонкими трехдюймовками, пошел походным порядком к Двинску, на позиции, расположенные вдоль Западной Двины — по ее правому берегу. Издали время от времени доносился глухой рокот нашей и немецкой артиллерии. Попадались отдельные санитарные повозки с ранеными, а на душе было и радостно, и тревожно. Молодость! — неповторимое, золотое время, которое начинаешь ценить, когда оно невозвратно уйдет, оставив лишь легкую дымку сладких воспоминаний.
На участке, который занимал наш дивизион, стояла постоянная, внештатная шестиорудийная батарея, снабженная японскими пушками. Части на участке менялись, но батарея оставалась стоять, и ее только передавали очередной воинской части. Командиром этой батареи меня сразу же и назначили. На батарее был постоянный штат прислуги в составе 150 человек. Я стал их неограниченным начальником и заботился о солдатах так, что после Октябрьского переворота эти ребята настояли, чтобы я остался командиром батареи.
Хочется вспомнить и моих верных соратников — офицеров батареи, с которыми я бывал под обстрелом, делил тяготы фронта. Командиром дивизиона у нас был сухопарый старик полковник Никитин, любитель выпить. Моей батареей командовал георгиевский кавалер Попов, вечно страдающий какой-то прилипчивой болезнью, которую он неизменно лечил той же водкой. Был он большой добряк, рубаха-парень. Все мы его любили. Старший офицер, хитрейший хохол, штабс-капитан Литвиненко был отменным офицером, помню, он часто болел глазами. А моими близкими товарищами стали блестящий математик, впоследствии незаменимый заведующий хозяйством Фофанов и молоденький чернявый прапорщик Усачевский, сын какого-то генерала, который регулярно угощал нас изумительным китайским чаем. Был и еще один офицер, прикомандированный ко мне на батарею, маленький, совершенно бесцветный Володя Фиников. Вот и все. Остальные безвозвратно ушли из моей памяти.
При распределении обязанностей среди младших офицеров меня почему-то назначили заведующим офицерской столовой, что впоследствии давало возможность помогать солдатам моей нештатной батареи. Среди солдат дивизиона я нашел одного пожилого плоскогрудого солдата, который был поваром института благородных девиц в Новочеркасске. Этот человек имел удивительную способность изготовлять изумительно вкусные вещи буквально из ничего. Офицеры были довольны, а я от него научился так же великолепно готовить все, что угодно, из непритязательных продуктов.
Война, несмотря на революцию, затягивалась, ей не было видно ни конца ни края. Никакой политической деятельности, по крайней мере у нас в дивизионе, не было. Ежедневно стреляли, ели, спали и ждали конца войны. Помню первый серьезный бой. Состязались наши и немецкие батареи. В это время я был уже на своей основной, второй батарее. Когда с визгом вблизи начали ложиться шестидюймовые немецкие снаряды, вероятно с Каляндровской батареи, я получил приказ перестроить параллельный веер. Земля дрожала от страшных взрывов, которые ломали деревья и с корнями вырывали огромные сосны. Прислуга замерла у орудий, ожидая команды. А я стоял похолодевший, у меня дрожал подбородок, и я не мог подать команду. Тогда, видя мое беспомощное состояние, старый фельдфебель спокойно распорядился:
— Чередниченко! Чего рот раззявил — подвинь хобот чуть влево! — а потом следующему номеру орудия: — Ну, а ты не видишь, куда хобот двигать надо?
Положение было спасено, и я, построив веер, начал стрельбу.
В одном из таких вот боев меня накрыло тяжелой волной воздуха от близко взорвавшегося шестидюймового снаряда. Я был контужен, но из строя не выбыл — только долго звенело в ушах и упорно болела голова. Вскоре нас сняли с позиции, и мы присоединились к общему потоку, совершенно не зная, куда и зачем нас ведут. Шли проливные дожди, а я остался только в кожаной куртке — без шинели, без плаща. В сапогах хлюпала вода. Лошади шатались от усталости, а мы все шли и шли, ночуя в поле под стогами или прямо у орудий. В конце концов я схватил жестокий ревматизм.
Из Петрограда и Кронштадта все чаще к нам стали приезжать агитаторы. Они организовывали солдатские комитеты, офицеры совершенно теряли авторитет, но армия все же держала фронт. Затем как-то на ходу провели выборы в Учредительное собрание, надвигался хаос, и никто не знал, что будет завтра. Говорили, что Корнилов арестован и посажен в Быхов со своими текинцами. Всюду главенствовал «душка» Керенский, которого солдаты не любили и даже ненавидели: «Шут гороховый! С бабами на фронт ездит, сука! Вот его бы в окопы посадить…»
Неуклонно приближался Октябрь. Но на фронт сообщение о новой революции пришло совершенно незаметно. Батареи наши осели в каком-то фольварке недалеко от Вендена, и вот там из приказов по армии мы и узнали о событиях. Ну, а когда пришел приказ об упразднении чинов и званий, когда солдаты стали сами выбирать своих начальников, — тут все стало ясно. В это время наша батарея разместилась во дворе Бургши. Офицеры заняли огромную, как неуютный сарай, комнату латышского дома. На меня производила тяжелое впечатление неприязнь латышей к русским. Большинство из них были суровыми солдатами революции, и их заградительные отряды на железнодорожных станциях, как я впоследствии убедился, были беспощадны. Вокруг шныряли агитаторы, которые требовали немедленного прекращения империалистической войны, говорили, что преступно стрелять по немецкому пролетариату. А вскоре начались выборы. Я стал командиром батареи, прапорщика Фофанова, как офицера очень способного и тихого, оставили заведовать хозяйством. Капитан Попов, георгиевский кавалер, пошел чистить лошадей, а изворотливый Литвиненко в одну из ночей бесследно исчез из батареи. Остальные офицеры тоже куда-то разбрелись. Таким образом, я стал после Октября первым выборным комбатом. Но что-то не радовало меня это. Пехота, побив всех своих офицеров, частенько требовала по полевому телефону, чтобы в батарее сняли золотопогонника, то есть меня, и выбрали бы комбатом солдата. Наши ворчали, мол, это не их дело. Пехота обещала прийти и взять меня на штыки, наши говорили, что встретят их картечью. Таким образом шла эта нисколько не радовавшая меня перебранка, и перед Рождеством 1917 года я предложил комитету назначить выборы, мотивируя это тем, что не нужно раздражать пехоту, что я и так буду помогать новому командиру батареи. Словом, после коротких дебатов командиром выбрали моего вестового Павленко, поразительно похожего на Никиту Хрущева.