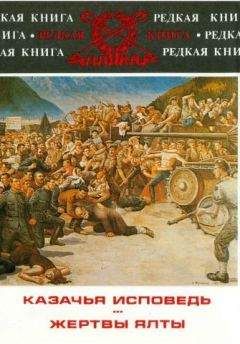Постреливали. Кое-где расправлялись с офицерами, которые чувствовали себя буквально вне закона. Из Ставки пришло сообщение, что исполняющего обязанности главнокомандующего генерала Духонина солдаты приняли на штыки и что назначен новый главнокомандующий прапорщик Крыленко. Появилась крылатая фраза, от которой мороз шел по коже: «Что ты? Захотел в штаб Духонина?» Это тогда означало верную смерть. Вообще наступили полный хаос и неразбериха. Появилась масса дезертиров. Говорили, что 80-я пехотная дивизия, стоящая неподалеку от нас, снялась самовольно с позиций и открыла фронт. Спешными перегруппировками затыкали ту дыру, но офицерство потянулось куда-то на юг, к Дону, где якобы собирал войска Корнилов или Алексеев. Однако фронт еще держался.
А вскоре пополз слух, что Учредительное собрание разогнано и что будут делить землю, не дожидаясь каких-то решений. И вот еще самое главное: землю получит только тот, кто будет лично присутствовать в деревне при дележе. Фронт как ветром сдуло!.. В течение нескольких дней сермяжная Русь покатилась по непролазным и забитым эшелонами дорогам домой, к своим хатам — делить землю. Не знаю, кто бросил этот лозунг о земле — гениальный и простой. И всюду слышался бешеный крик нетерпеливых солдат:
— Гаврила! Крути!..
Этим грозно-веселым криком хозяева земли заставляли падающих от усталости машинистов поскорее уводить поезда со станций и гнать переполненные составы в глубь клокочущей России. Крыши вагонов, буфера и площадки были усыпаны телами солдат, жадно рвущихся к желанной земле. Многие по дороге засыпали и срывались с крыш, падали и гибли. Такова была извечная тяга русского крестьянина к матушке-земле. Я же долгими зимними вечерами, оставшись один, лежал на походной постели и смотрел в потолок. Жить стало страшно и трудно. Я вертел в руках вороненый, густо смазанный маслом наган, чуть нажимая и отпуская курок. Жизнь казалась конченой, все происходящее кругом непонятным, но вот рука безвольно падала на грудь и наган с грохотом летел на пол. Всегда от последнего шага меня отделяла только одна ниточка-мысль, но ниточка крепкая, как сталь: «Постой! А как же дед Осип? Что скажет он, всю свою жизнь и надежды вложивший в тебя?..» И эта мысль всегда чудодейственно спасала меня.
Незаметно прошло Рождество. На пороге стоял страшный и кровавый 1918 год. Но тогда мы еще не знали об этом. Дни однообразно текли своею чередой. От фронта остались лишь жалкие лоскуты — заслоны от немецких войск, которые почти все свои силы сосредоточили на Западе, где решалась, вопреки логике и элементарной исторической справедливости, судьба первой мировой войны, где огромная Россия спасла Париж, совершив или, вернее, помогла совершить пресловутое «чудо на Марне». По существу, фитиль войны догорал и пребывание на фронте становилось просто бессмысленным. Кое-где постреливали по бывшим офицерам, сводя личные счеты. Ни погон, ни иных знаков отличия уже не было. Я часто ходил к солдатам и, сам ничего не понимая в происходящем, вел с ними беседы. Батарея сильно поредела. Под видом кратковременного отпуска солдаты, собрав жалкие пожитки, уезжали домой, чтобы уже никогда не возвратиться в медленно умирающую боевую семью.
Наступил снежный и лютый январь, и вот как-то тоскливым и неуютным вечером в жуткую метель ко мне зашел взволнованный комбат Павленко, мой бывший вестовой, и говорит:
— Николай Андреевич, я и солдаты беспокоимся, как бы вас не убили пехотинцы. Очень неспокойно. Мы вас ценим, и было бы лучше, если бы вы уехали домой. Офицеры, спасаясь от солдат, бегут на Дон, а вам и бежать не надо — вы ведь с Дона. — Подумав, он решительно добавил: — Один через эту кутерьму вы не проедете. Я дам вам в провожатые двух надежных солдат, и они довезут вас до самого дома…
Много раз потом я вспоминал предусмотрительного и очень умного хохла Павленко, который помог мне выбраться из этого хаоса и благополучно добраться домой, где уже началась иная, очень тяжелая пора моей молодости, время, когда Россия входила на кровавую Голгофу гражданской войны…
И вот в один из вечеров, кажется 10 или 11 января 1918 года, сопровождаемый двумя бравыми солдатами, я на командирских санках отправился на станцию Лоди — покинул фронт. Уезжая навсегда из своей батареи, я бросил все свои офицерские вещи — сундук, купленный в гвардейском экономическом обществе по окончании училища, походную кровать, шинель, двойные сапоги с фильцевой вложкой, седло и даже шашку. Мне тогда казалось, что война окончена навсегда, вот-вот успокоится революционная буря и я снова войду в аудиторию Военно-медицинской академии. Через всю Россию я вез коллекцию — мешок, в котором звенели осколки немецких снарядов, пули и лежали две новенькие гранаты моей 306-й батареи. Несмотря ни на что, азарт коллекционера у меня доминировал надо всем. Сопровождавшие меня солдаты, ехавшие, как говорится, порожняком, перенося этот мешок на многочисленных пересадках, морщились и укоряюще говорили:
— И зачем вы эту пакость, Николай Андреевич, через всю мать-Расею тянете?
Я успокаивал их:
— Деду везу. Он у меня старый артиллерист. Под Шипкой был. Рад будет!..
Но дед… По возвращении домой как-то на балконе я разбирал боевую трубку шрапнели и нечаянно царапнул капсюль с гремучей ртутью — тот оглушительно взорвался. Тогда дед подошел ко мне и как-то сразу, по-казачьи, влепил мне затрещину, а мои шрапнели на веревке спустил в колодезь.
— Чего офицера трогаешь? — вспылил я. Но дед, бешено сверкнув глазами, крикнул:
— Я тебе дам офицера! Дом взорвешь, чертяка!..
А пока мы еще ехали с фронта. Ночь была морозная, мела метель. До станции Лоди мы добрались совсем замерзшие. Поезда ходили медленно. Билеты, конечно, не продавались. Тогда казалось, что вся Великая Русь села на колеса и куда-то мчится.
Подошел заметенный снегом, оледенелый поезд, до отказа набитый солдатами. Еле-еле втолкались мы на переднюю площадку, позже мои спутники каким-то образом устроили меня у бокового окна на скамейке. Вагон был забит. Многие везли пулеметы, винтовки и даже откуда-то взявшиеся тесаки: все, мол, дома в деревне может пригодиться. Особенно страшно было проезжать через узловые станции. На каждой из них стояли заградительные отряды в основном из неумолимых латышей и нечеловечески страшных китайцев. Обычно, когда останавливался поезд, в вагон, гремя прикладами, вваливался отряд, и, зорко оглядывая пассажиров, латыши или китайцы спрашивали:
— Есть офицеры? Выводи!
Нередко тыча в меня пальцем, допытывались:
— А этот? Не офицер?..
Но мои провожатые, матюкаясь, выпроваживали их: