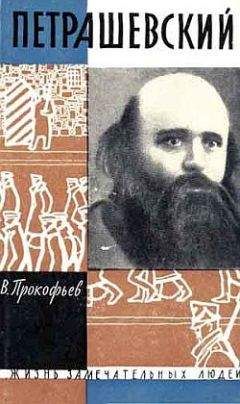Конечно, эти сборища совершенно напрасно окрестили «петербургским кружком» Белинского. Людей, близких к Виссариону Григорьевичу, там почти не бывает. Но Салтыков приходит не ради них, даже более того, он уверен, что эти люди, лезущие, набивающиеся к Белинскому в приятели, в любой момент предадут его и вообще они потенциально «стадо свиней». Но слушать Белинского, пусть даже из комнаты, противоположной той, где собрались гости, никем не замеченным, обдумывать каждое его слово — это ли не наслаждение, это ли не университет!
И, конечно, Салтыков с удовольствием поделится всем, что услышит.
Петрашевский втайне надеется, что через Салтыкова он сможет познакомиться и с Виссарионом Григорьевичем.
На примете у Михаила Васильевича еще два лицеиста — Засядко и Степанов. Особыми талантами они не блистают, зато могут помочь деньгами, связями. Наезжая в лицей, Петрашевский никогда не отказывал себе в удовольствии собрать группу молодежи и убежать с нею куда-либо в чащу парка, где нет расчищенных дорожек и подстриженных клумб.
Слушали жадно, ведь большей частью Петрашевский говорил об идее братства, общего труда, общей жизни, полного удовлетворения всех потребностей. Говорил без обиняков и очень красноречиво. Лицеисты чувствовали себя немного заговорщиками, пробравшимися в царский сад и поносящими деяния царя.
Целый год бился Михаил Васильевич, пытаясь создать журнал. Нелегко расставался он с задуманным, проявляя похвальное упрямство. Верил, что рано или поздно сумеет заговорить полным голосом.
И к этому тщательно готовился.
Журнал или кафедра. Для пропаганды передовых, прогрессивных идей нет других способов. Но и в журнал и на кафедру нужно прийти уже с готовыми решениями.
«Запас общеполезного» пополнялся мыслями и набросками.
В первом номере журнала обязательно должна быть программная статья.
Статью Петрашевский условно озаглавил «Критика критик». Заглавие было не случайным, ведь в журналах именно критические обзоры заменяли собой отсутствующие отделы внутренней и международной жизни, публицистику. Это была кровавая дань цензуре, не пропускавшей никаких статей, где бы говорилось о насущных явлениях общественной жизни.
Петрашевский замахнулся широко. Теория критики, ее назначение, «какой она должна быть и может быть, мимоходом, какою она была или бывала». От глубокой древности и до наших дней. Древность интересна тем, что позволяет дать уничтожающий обзор «деяний апостольских», на примерах показать, как верования заменяют убеждения и оставляют людей в темноте и невежестве.
Статья так и не была написана. Но наброски иных тем продолжались.
Петрашевского интересовало буквально все. И судьбы Польши, если бы последняя получила автономию, и проблема необходимости уничтожить наследственность духовного звания, упрощение механизма государственного управления и женский вопрос. О Польше и духовенстве он вспомнил, тайком читая донесения следственной комиссии по делу декабристов. Ну, а что касается женщин, то Петрашевский был невысокого мнения о них. Ведь недаром же в русском языке все «худые свойства» обязательно женского рода: «зависть», «злоба», «ненависть», «ревность».
Хотя, перечитав Жюля Лешевалье, последователя Сен-Симона, ставшего затем фурьеристом, Петрашевский несколько смягчился и признал за женщинами право на эмансипацию.
С журналом так ничего и не получилось. Да и могло ли быть иначе, когда правительство не только не разрешало новых изданий, но всячески старалось сократить число старых.
Это была первая и очень чувствительная неудача. Петрашевский за годы после окончания университета, за годы запойного чтения, лихорадочных поисков своего жизненного поприща убедился, что прежде всего необходима пропаганда и пропаганда.
Задумывался ли в эти годы Михаил Васильевич над средствами, с помощью которых можно изменить российскую действительность? Конечно, думал. Думал он и о революции. Его духовный учитель — Фурье — отрицал революционное действие. Но другой учитель и «властитель дум» — Белинский, нигде не обронив этого слова, всем ходом своих размышлений над явлениями русской литературы как бы подводил читателей к невысказанному выводу — да, только революция, только «маратовская любовь» к человечеству может очистить авгиевы конюшни российского царства.
Не случайно Михаил Васильевич читал и перечитывал, настоятельно рекомендовал своим знакомым плохонький перевод не слишком чистоплотной книжицы аббата Баррюэля «Вольтерианцы, или история о якобинцах, открывающая все противухристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы. С французского последнего издания в 12 частях».
Аббат отрицал революцию как закономерность исторического развития, как действие народных масс и все сводил к злоумышлениям заговорщиков.
Но Петрашевский в такую революцию не верил. Пример декабристов был еще очень свеж.
И недаром Михаил Васильевич задумывался прежде всего над средствами пропаганды идей социалистических. Пропаганда предшествует революции. Она и только она подготавливает ее.
Но как вести пропаганду?
Чиновничья карьера ему окончательно опротивела. После защиты диссертации он стал коллежским секретарем, жалоцанье его увеличилось до 495 рублей серебром, а впереди маячил чин титулярного советника. Но тупая, невежественная, за редким исключением, среда чиновников, вечная беготня по делам иностранцев, столкновения с полицией надоели. Он тратил время, оилы, нервы, а толку никакого.
Если не удалось создать журнал, то остается еще кафедра. Преподавание тоже могучее средство пропаганды.
Некоторые прекраснодушествующие интеллигенты полагают, что просвещение народа — забота, лежащая исключительно на одном правительстве. Это утопия. В лучшем случае уваровское министерство «народного затмения» введет школы первоначального обучения. Впрочем, Петрашевский в этом тоже сомневается. Во-первых, школ таких должно быть множество, во-вторых, было бы глупо надеяться на царское правительство, царские министерства, которые «под видом покровительствования образованности и просвещения тысячами тайных инструкций и инквизиционных учреждений стараются всячески остановить умственное развитие тех народов, забота о благе которых должна бы была составлять их единственное и исключительное старание…».
Недаром он еще в студенческие годы писал: «Презрение и ненависть к ним должны священным долгом быть каждого человека, в сердце которого не умерло сознание человеческого достоинства».