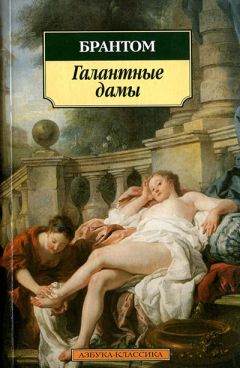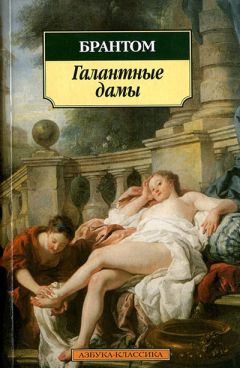Посему не буду более распространяться на сей счет — хотя некоторые и упрекнут меня, что не был достаточно щедр на примеры из его жизни и должен был бы привести их в большем числе, когда бы знал. Да мне их известно множество, и самых невероятных, — но не могу же я так, с места в карьер, приняться выносить на люди всю подноготную французского двора и остального света; а ежели бы, желая сделать мои писания более основательными, я вздумал не поскупиться на доказательства, — не оберечься бы мне от оскорбления живых и мертвых.
А обличители женского пола бывают нескольких родов. Одни разносят сплетни о тех, кто им досадили, пусть их жертвы и воплощение целомудрия: эти даже из прекрасного чистого ангела готовы сделать смрадного дьявола, насквозь пропитанного ядом злобы. Таков один известный мне весьма высокопоставленный дворянин: из-за легчайшего неудовольствия, доставленного ему очень благоразумной и добродетельнейшей особой — однажды сильно повздорившей с ним, — он рисовал ее портрет самыми неприятными красками. Он говорил: «Я прекрасно знаю, что не прав, — и не отрицаю, что эта дама целомудренна и добродетельна; однако стоит кому-нибудь меня оскорбить — будь он хоть столь же чист душой и телом, сколь непорочная Дева Мария, — я наговорю о сей персоне горчайших гадостей, ибо иначе мне ей не отомстить». Однако терпение Господа нашего все же не беспредельно.
Другие обличители, полюбив превосходную особу, но не преуспев в осаде ее целомудрия, от огорчения обвиняют ее в податливости, и делают даже хуже: уверяют, что добились того, в чем не преуспели, но, познав и ужаснувшись любострастной порочности, покинули презренную. При дворе разных государей я видывал вельможных кавалеров такого склада. Когда же женщина, наскучив связью с милым спутником альковных забав, по легкомыслию или непоседливости променяет его на другого, отвергнутый дамский угодник, в отчаянии и обиде, так размалюет и разукрасит бедное непостоянное создание божье (не умолчав ни о страстном лепете и стонах, о безумных выходках, коих был свидетель и участник, ни об особых отметинах на теле в недоступных взгляду местах), дабы все поверили в его правдивость.
А есть и те, кто — в раздражении, что отдались другому, а не им, — усердствуют в злоречии и выслеживают, подстерегают и бдят, чтобы представить больше доказательств собственной правдивости.
Не нужно забывать и об охваченных яростной ревностью, не имеющей никакого основания, кроме себя самой; они говорят худо о тех, кто любит их более себя, хотя сами способны дать взамен лишь половину. Вот одно из великих свойств ревности. И подобных осквернителей святого чувства не следует слишком бранить; все это — причуды единоутробных сестер: любви и ревности.
Наконец, есть и такие пустые люди, привыкшие хулить кого ни попадя, что, не найдя достойного предмета, готовы очернить хоть самих себя. Сами посудите: как может женское достоинство защититься от подобных сквернавцев? Есть и было при наших дворах немало тех, кто, боясь говорить плохо о мужчинах из боязни почувствовать остроту их клинка, вытирают ноги о платья бедных женщин, коим защитой служат только слезы, сожаления и жалкие слова. Но знакомы мне были и те, кому подобная смелость вышла боком: нашлись родственники, братья, друзья, обожатели или просто мужья, которые смогли отплатить за подлость — и заставить обидчика проглотить собственную ложь и подавиться ею. И наконец, чтобы с этим покончить, прибавлю лишь, что, если бы я хотел рассказать обо всех этих разнообразных породах хулителей женской чести, мне бы не хватило времени и сил.
Существует такое мнение — и многие его, как я знаю, придерживаются, — будто тайная любовь ничего не стоит: нежная страсть должна быть известна пусть не всем, но хотя бы самым верным друзьям; а ежели во всеуслышание о ней объявить невозможно, то все же каждый должен обо всем догадываться либо по знакам внимания, либо по цветам лент, или же по каким-нибудь рыцарственным выходкам на турнирах и ристаньях, на маскарадах, при игре в кольца, а также, по добровольной жертвенности в военных вылазках, дающих огромное удовлетворение.
И действительно, на что великому военному предводителю совершать невероятный подвиг и выказывать доблесть, если о сем никто не узнает? Думаю, его постигнет смертельное разочарование. В подобном же положении и счастливые влюбленные, утверждают многие. И крепче других держался этого правила господин де Немур, зерцало нашей рыцарственности: ибо если какой-нибудь принц, сеньор или худородный дворянин и был счастлив в любви, то навряд ли более его. А он не пытался таить свои успехи от ближайших друзей, хотя от большинства людей скрывал их так тщательно, что они с трудом могли о чем-либо догадаться.
Конечно, для замужних особ подобные откровения довольно опасны, но для девиц и вдов на выданье они не имеют веса, ибо слух о будущей женитьбе — прекрасный предлог, который все покрывает.
Знавал я весьма высокородного придворного, который, служа некой вельможной особе, однажды — будучи среди своих приятелей, обсуждавших, у кого какая возлюбленная, и поклявшихся открыть друг другу все свои амуры, — никоим образом не пожелал рассказать о собственном влечении, а поведал о вымышленном — и тем самым обвел их вокруг пальца. А среди них был некий наизнатнейший вельможа, но сколько тот ни призывал строптивца к откровенности, подозревая о его тайной любви, ни он, ни все присутствовавшие не выведали больше; хотя, быть может, он и проклинал сотню раз свой жребий, побуждавший его удерживать в себе свое любовное счастье, которое сильнее рвется наружу, разжигая нутро, чем амурные неудачи.
Другой знакомый мне галантный кавалер, кичась собой и своей избранницей, слишком охотно намекал на свое счастье, о котором ему бы стоило помолчать, поскольку слова его и намеки стали причиной покушения на его жизнь (хотя он и отбился от нападавших); впрочем, по другому поводу он накликал новую попытку — и тут уж ему пришел конец.
Был я при дворе короля Франциска II как раз тогда, когда граф де Сент-Эньян сочетался в Фонтенбло браком с юной Бурдезьер. На следующий день, когда новоиспеченный муж явился в покои короля, каждый, по обычаю, стал приставать к нему, а один высокородный господин даже спросил, сколько застав он преодолел на своем пути. Молодожен ответил, что пять. Тут же находившийся благородный дворянин — королевский секретарь, пребывавший в большом фаворе у некой преблагородной сеньоры (называть которую не буду), — заметил, что для летнего времени пробежка коротка — при такой доброй погоде и наезженной дороге. Но раздраженный супруг вскричал: «Да, черт подери, по-вашему, тут не лошадь надобна, а куропатка!» — «А почему бы нет?» — ответствовал секретарь. — «Да бог мой! Я преодолел дюжину от заката до заката, оседлав самую красивую кудрявую птичку, какая только ни есть в округе, да и во всей Франции». Так кто был ошарашен? Конечно, молодой муж, ибо узнал то, о чем давно подозревал: ведь он был влюблен в ту же благородную особу и теперь огорчился, что столько времени напрасно охотился в тех угодьях, а добычу-то упустил; тогда как другой оказался счастливее: и набрел на птичку, и сеть набросил. Но незадачливый ловец на время затаился, хотя не уставал разжигать в себе злобу и таить глухую обиду, о которой никогда более не забывал. А поостерегись секретарь и получше храни свою тайну, умалчивая хотя бы и о столь удачном приключении, — ни ссоры, ни раздора не было бы в помине.