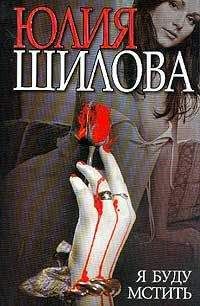Однажды я сказал ему:
– На мой взгляд, талант – это дополнительная надбавка, придаток ко всему, что есть у обыкновенного человека…
– …чтобы он мучился с ним всю жизнь, – продолжил Быков.
Мы не смотрели друг на друга. Каждый задумался о своем. В цеху царило безлюдье – большинство картин было уже закончено и принято. Мы остались вдвоем.
– Искусство – это не жизнь, – говорил он. – Это вроде бы и жизнь, только чуть-чуть смещенная. Это то, что могло бы быть жизнью, а могло бы и не быть. Гамлета, наверное, не было в жизни, а мог бы и быть.
– Но у тебя на экране жизнь всегда показана в ее формах, то есть такой, как она есть на самом деле, вокруг нас, – возразил я тут.
– Не совсем так, – не согласился он. – Ты присмотрись повнимательней. Эта жизнь сконструирована мной, Быковым, а твоя – тобой и никем другим.
Искусство – это некоторое нарушение реального, смещение. Немного не так, как в жизни…
Как-то мы заговорили о студийных делах, о суете, напрасной трате времени в коридорах, на заседаниях в Доме кино, в спорах между собой.
– Каждый день шахтер выдает на-гора десятки тонн угля, рабочий делает детали, колхозник дает молоко и хлеб. Только мы тратим время попусту, на разговоры, – сказал Быков.
Быков не любил суеты. Более всего кинематографической. И его нерядовая слава стала для него суетой. Он думал, думал… Точнее, задумывался. В последние годы – глубоко, тяжко, мучительно. Поэтому избегал всех этих парадных заседаний, шумных встреч, Разговаривал. Избегал похвальбы. Смотрел на это со стороны. Молча искал истину, размышлял. Надолго исчезал со студии, подальше от суеты…
Потом я побывал у Леонида Федоровича на съемочной площадке, в павильоне. Еще со студенческих лет люблю тихонько прийти на съемки и со стороны наблюдать за работой режиссера. Потому что всегда стремился определить для себя: какая же режиссерская манера самая правильная, самая лучшая, самая эффективная? Чей метод может стать и моим методом? Видел накал страстей, реактивность, темперамент И. Пырьева (это был период его «Белых ночей» по Достоевскому), спокойствие, интеллигентность, какую-то трогательную, нежную трепетность М. Ромма, уверенность и значительность С. Герасимова, высокий профессионализм С. Бондарчука… У Быкова была своя атмосфера на съемочной площадке. На высоких «ногах» стоял забытый всеми киноаппарат. Тишина и покой царили вокруг него. Крайне деликатно, в противовес многим чванливым и капризным полурежиссерам, говорил что-то своим товарищам по работе Леонид Федорович. И не приказывал (ох, эти режиссерские окрики, истерики!), а просил что-то сделать, и все слушали его внимательно и с пониманием.
Неподалеку стягивали черные кольца кабеля осветители и тоже молча. Без крика и шума. Усмехаясь. А Быков старался как можно скорее оторваться от побочных дел (к сожалению, в работе режиссера все главное), чтоб подольше поработать с актерами.
Актеры были его стихией, его любимцами, обласканными детьми, посланцами бога на земле. Не потому ли, что сам он был актером? Может быть… Быков знал, что путь к раскрытию в кино человеческой сущности лежит через актера.
С актером он не был диктатором-режиссером (и ни с кем не был), но мог быть с ним другом. Актерам он блестяще показывал, как надо играть, и тогда неудачнику не оставалось ничего иного, как повторить все это. Он не ломал талант других, а стремился открыть его. Просил раскрыться. Репетировал. Десятки раз повторял, не щадя своих товарищей. Его любовь преследовала одну цель – сделать для них все, чтобы они остались собой. И непризнанные стали известными, получили признание. Наверное, этим он был счастлив.
Потом, через много лет, когда Быкова не стало, друзья-актеры назовут его своим учителем. И это будет правдой. Многие из них впервые стояли перед его киноаппаратом. И они найдут для него одно-единственное слово, самое лучшее, определяющее – добрый.
– У него были добрые глаза. Я боялся глаза киноаппарата, но меня утешали и успокаивали глаза Быкова.
– Если глаза – зеркало души, то душа Быкова была доброй. Такой отражали ее незабываемые Ленины глаза.
– Он был таким добрым, что казался даже беспомощным. Но это в жизни, в быту, в суете. В искусстве он не был беспомощным. А был сильным, мощным, страстным, темпераментным.
– О доброте Быкова говорят его фильмы. Разве присутствует в них иная интонация, кроме доброй, лукавой быковской улыбки?
И когда говорят, что стиль – это и есть сам художник, то Леонид Быков – ярчайшее тому подтверждение. Ему не судьба была создать своего Швейка. Жаль, потому что это он мог. И Теркин тоже под силу ему был. А Ричарда Третьего не мог. Это ему не надо было. Он – другой».
Виктор Маляревич, актер: «Встреча со зрителями была намечена на вечер в Доме офицеров. А пока был погожий день, времени достаточно, и Леонид Федорович попросил наших хозяев-авиаторов показать самолет, который пришел на смену тем легендарным, из «Стариков…». На его просьбу летчики с удовольствием откликнулись, и вот уже мы на аэродроме.
Пока мы рассматривали и любовались современным боевым самолетом, собралось столько желающих «посмотреть на Быкова», что аэродром стал походить на стадион в последние минуты перед матчем.
Не могу определить, не могу назвать – хотя прошло уже столько лет – характер этой незапланированной, в буквальном смысле слова стихийной встречи: то ли это был диалог режиссера и зрителя, то ли ответ на вопросы, касающиеся чего угодно, только не искусства, то ли чествование космонавта, то ли встреча старых добрых друзей… И действительно, разговор был удивительный у режиссера Быкова и летчиков Н-ской части: об урожае, о хлебе, о дружбе…
Четыре часа продолжалась стихийно возникшая встреча тех, кому посвящен фильм «В бой идут одни «старики», с любимым, родным, таким знакомым с детства Леней Быковым…
А ведь эти люди еще не видели «Стариков», которых должны показывать через несколько часов в Доме офицеров. Всем было достаточно увидеть своего Максима Перепелицу, переброситься с ним шуткой, пожать руку своему Алешке…
Он никогда не говорил, что сделанная работа – его работа. Он считал, что его фильмы – плод работы многих людей. И всегда на первом плане у него были друзья, коллеги, единомышленники. И, тем не менее, то, что он наш духовный наставник, мы чувствовали все и всегда.
Вот, бывало, стоим на сцене. Перед нами замерший зал. Подходит моя очередь говорить. Я искренен, открыт залу, мне есть что сказать людям… Но какое-то внутреннее беспокойство заставляет меня оглянуться на него, получить, прежде всего, его одобрение или поощрение, его молчаливый сигнал: то или не то говорю, так или не так начал. А бывало и так, что, не глядя на Быкова, я знал, что он хочет от меня услышать. И я мгновенно перестраивался, будто получил телепатические импульсы.