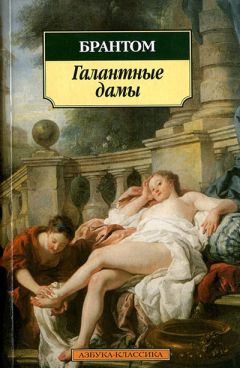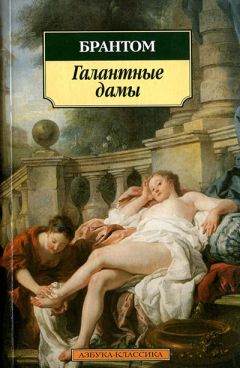Вот почему скромность в подобных вещах весьма необходима, почитаема и в счастье и в напасти: особы, умеющие в опасный миг не подать виду и не роняющие тем самым свою честь, знают, что стоит лишь пальчиком прикоснуться к грязи, как польются дождем пасквили, разоблачения и злоречивые обвинения.
Конечно, есть дамы, которым легко и привольно плавается и в открытом море, и в сладкой пене волн Венеры; они там резвятся привольно, без всяких одежд, и, как только им вздумается, направляются к кипрскому храму богини любви и в ее сады, где услаждают себя сколько душе их угодно; но один черт ведает, почему о них не злословят в свете и имен их не упоминают, словно они никогда не являлись в этот мир. Так фортуна благоприятствует одним и противодействует другим, подвергая их людскому злоречию либо ограждая от него. Так было в мое время, да и теперь все осталось по-прежнему.
В годы царствования короля Карла в Фонтенбло появился пасквиль довольно низкого и порочащего свойства: он не оставлял без внимания ни вельможнейших дам, ни всех прочих. И если бы узнали имя автора — ему пришлось бы ох как несладко.
В Блуа, когда заключался брак между королевой Наваррской и ее будущим коронованным супругом, появилась другая, не менее отвратительная книжонка, направленная против особы очень высокого полета, — и снова разыскать автора не удалось; в дело были замешаны многие весьма благородные и храбрые господа, но они лишь рубили клинками воздух и сотрясали небеса опровержениями. За сим скверным сочинением появились и другие, затмевающие все доселе известное в этом роде: получилось, будто от времени царствования Генриха III не помнится ничего, кроме разных похабных историй; причем один наиболее вопиющий пасквиль был составлен в форме песни и положен на мотив всем известного танца, часто исполняемого во дворце, благодаря чему вскоре его напевали все (и при дворе, и на его задворках: и пажи, и лакеи — и тенором, и басом).
А в правление короля Генриха III приключилось еще худшее: некий дворянин — чье имя мне известно, да и его самого я видел собственными глазами, — так вот, этот дворянин однажды подарил своей возлюбленной книгу с рисунками, где многократно были запечатлены тридцать две дамы как из самого высшего общества, так и менее титулованные; их представили во всем их нагом естестве, лежащими забавляющимися со своими поклонниками, также не имевшими, чем прикрыться, и нарисованными в простодушной наготе. У некоторых прелестниц имелось по два или три обожателя — у кого больше, У кого меньше; из этих тридцати двух дам и их кавалеров было составлено почти полторы сотни совершенно разных фигур в позах, позаимствованных у Аретино.
Портреты поражали сходством; причем не все красовались без одежд — иные попали туда в том же платье, прическе и украшениях, как их встречали при дворе. И так обошлись не только с кавалерами, но и с милыми прелестницами! Короче, книга эта была так прелюбопытно и прихотливо изукрашена, что и сказать нельзя, а потому стоила восемь или девять сотен экю и поражала яркостью красок.
Эта дама однажды ее показала другой — своей близкой приятельнице, находящейся под крепким покровительством одной высокорожденной особы, чей портрет попал в книгу. Но поскольку приятельница снискала большую любовь своей знатной покровительницы, она поведала ей обо всем. Та, вечно снедаемая любопытством, тотчас захотела повидать сей курьез и сговорилась со своей вельможной кузиной, тоже изъявившей такое желание. Они очень горячо любили друг дружку — и не могли не присутствовать вместе на таком пиршестве как для глаз, так и для любопытного ума.
Дамы разглядывали книгу очень пристально, не в силах оторваться, — и в каждый листик в отдельности всматривались подолгу, даже ненароком не пропустив ни одного, что заняло у них добрых два часа их драгоценного времени. Вместо того чтобы разъяриться и метать громы и молнии, они смеялись и восхищались, изучая каждую черточку, — и так разгорелись любострастней, что начали друг друга целовать, как голубки, и обниматься; и зашли еще гораздо дальше, ибо имели друг к другу подобные склонности.
Обе эти дамы оказались смелее и мужественнее, да и стойкостью превосходили ту, о которой мне рассказывали: она однажды, увидев эту книгу вместе с двумя своими подругами, пришла в такое восхищение и любовную горячку, ей так захотелось последовать сейчас же столь выразительным примерам и томным картинам, что дотерпела лишь до четвертого листа — и упала без чувств. Право, чудовищный обморок; и как же эта особа, сомлевшая от избытка страсти, не похожа на Октавию, сестру Цезаря Августа, каковая, в некий день услышав от Вергилия три стиха, посвященные ее погибшему сыну Марцеллу (за эти-то всего-навсего три стиха она пожаловала поэту целых три тысячи экю), тотчас лишилась сознания. Вот истинная любовь, только совсем иного рода!
При дворе я слыхал рассказ об одном сиятельном вельможе, достигшем преклонных лет, каковой, потеряв жену, вел себя во вдовстве весьма сдержанно, к чему его подвигала глубокая вера. Но вот вдруг он захотел соединиться вторым браком с великолепнейшей, добродетельной — однако же очень молодой — принцессой. Притом, не прикасаясь к женщине за добрый десяток лет вдовства, он опасался, что забыл, как это делается (как будто можно такому разучиться), и побаивался позорного поражения в первую брачную ночь; потому, не придумав иного средства проверить себя, он за деньги уговорил молодую хорошенькую девицу — непорочную, как и та, кого он должен был взять в жены. Да еще, говорят, выбрал такую, что лицом походила на будущую супругу. Фортуна была к нему благосклонна, позволив доказать себе — а потом и своей суженой, — что он не забыл прежних уроков: первый приступ он повел так смело и радостно, что крепость жены сдалась без труда, а новобрачный насладился победой и поддержал свое имя.
Другому же, в отличие от первого вовсе желторотому и нестоящему жениху, не так повезло: отец собирался его оженить; и сей малолетний дворянин тоже возмечтал попробовать свои силы, чтобы узнать, сможет ли он стать приятным спутником своей жене; а для того, за несколько месяцев до торжества, нашел весьма пригожую женщину легкого поведения, каковая каждый вечер приходила к нему в заповедную рощицу, коей владел его родитель, — ибо дело было летом — и там премило развлекалась с ним под прохладной сенью зеленых дерев и под шелест ручейка. Юнец проявлял чудеса доблести — и не боялся ничьего соперничества в познании всех дьявольских штучек. Но худшее ждало его впереди: в свадебную ночь он вошел к молодой супруге — и не смог ничего предпринять. Вообразите его удивление! Вне себя, он проклинал несносный клинок-предатель и супружескую постель, похитившую его пламень. Наконец, набравшись смелости, он признался жене: «Друг мой, даже не знаю, что со мной случилось, ибо все дни до этого я неистовствовал в заповедной рощице моего отца». И рассказал ей о своих победных безумствах. «Поспим эту ночь, — закончил он. — А завтра под вечер я поведу вас туда — и вы убедитесь, на что я способен». Так они и поступили, и жена его осталась довольна; а при дворе с тех пор появилась пословица: «Если бы я обнимал вас в родительской заповедной рощице — вы бы увидели, на что я способен». Вспомним же, что божества садов и парков — мессир Приап, фавны и сатиры, гении лугов и лесных чащоб, — все они помогали влюбленным и споспешествовали их радостным подвигам.