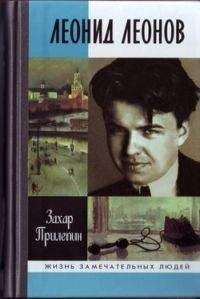Это можно долго и успешно доказывать, сверяя строку со строкой, а можно просто поместить под одну обложку «Новый год», «Дорогу в горы», «Москву», «Смерть матери», «Сказку о дедовой шубе», «Сказку о сне» Луговского и — «Маленькую железную дверь в стене», «Траву забвенья», «Святой колодец», «Разбитую жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Кладбище в Скулянах», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Спящий» Катаева.
И тогда станет ясно, что совпадают не только ключевые слова и темы (родовые воспоминания, революция, Гражданская, террор, уход родителей, Ленин, Маяковский, друзья и товарищи по литературе), но и сама форма описания их: Луговской уже на полшага к прозе, Катаев на полшага к поэзии, оба помнят, в чём виноваты, помнят, как щедро совершали глупости и подлости, оба — но Луговской первый — настроили оптику так, будто бы они смотрят сон о самих себе, и вместе с ними тот же сон смотрит читатель, сон в ритме лодки, покачивающейся на воде времени. Нарочитая (зачастую ложная, внешняя) бессюжетность, удивительная образность, вернувшаяся юношеская романтичность — и беспристрастный взгляд на эпоху, ужасную и небывалую.
«Да, это правда сон», — начинает Луговской одну из своих поэм. «После этого начались сны» — одна из первых фраз повести Катаева «Святой колодец».
Сны тихие и — беспощадные.
«…я / Случайный, схваченный за хвост свидетель, / Седеющий от лжи», — объявляет Луговской.
«Я верил в Бога, я любил его, / Я видел Бога. / Он сидел во тьме, / Старинный, одинокий, непонятный, / Держа в руках модель аэроплана / Работы первых строгих мастеров, / Мечтавших в девятнадцатом столетье / О высшей правде и победе человека…»
Высшая правда пришла не так, как ждали её.
Он вспоминает: «Душа народа, как свеча, горела, / Зажжённая судьбою с двух концов. / И заслоняли глушь дождливых парков / Пять тысяч гипсовых волейболисток, / Пять тысяч статуй гипсовых вождя».
Он кается: «О, город мой, такой невероятный, / Что ночью снятся мне звонки ночные / (О, год тридцать седьмой, тридцать седьмой!), / Что ночью слышу я шаги из мрака — / Кого? Друзей, товарищей моих, / Которых честно я клеймил позором».
Он ужасается: «И человек, как смерч, летел к Мадриду, / Чтобы смести фашизм. Читал “Гренаду”. / Потом в Москве полночной ртом кровавым / Кричал на следователя: “Фашист!” / Изведал горе, радость, ужас смерти / И жизнь окончил в небе над Берлином».
«Что мне сказать, плохому сыну века?»
Вот что!
И всё же видел ты, что оглуплялись
Умы и души, полные тревоги,
Чудесного, земного беспокойства
За новый взлёт, за красоту открытий.
Ты видел, как стандартным черпаком
До дна исчерпывались эти души.
Ты видел, как догматиков скрипучих
В мертвящий плен цитаты загоняли.
И всё же, вопреки железной скуке,
Рвались под солнце зло, неудержимо
Десятки тысяч подлинных людей,
Талантливых, умелых, непреклонных.
Не спрятав взгляд ни от чего, не попытавшись обойти словом свою подлость и слабость, кровь, хаос и ужас, Луговской выносит своё оправдание:
Ты понимал жестокий ход событий,
Ты знал, что даже в самый страшный час
Мы шли вперёд. По крови? Да, по крови.
И по костям? Да, по костям. Спроси
У тех костей — за что погибли люди?
Тяжёлый ты ответ тогда услышишь
И справедливый: «Люди, мы боролись
За коммунизм. Живите. Мы простим!»
Луговской написал под прессом жестоковыйной власти свои самые дурные, патетичные и пустые стихи, сочинённые в каком-то изнеможении сил и чувств.
Но дело в том, что лучшие свои стихи он написал в силу тех же причин: под влиянием времени, на мощнейшем ветру эпохи. Эпоха дала ему всё: жизнь, кипенье, ощущение причастности к нечеловеческим победам — у него хватило разума и сил осознать это — не забыв всё остальное: 1937-й, крушение многих иллюзий.
В одном из последних своих стихотворений он напишет:
Может быть,
Это старость,
Весна,
Запорожских степей забытьё?
Нет!
Это — сны революции,
Это — бессмертье моё!
Перед нами — верный, не сдавший ни одной позиции ребёнок Октября, прожжённый, неисправимый «левак» и к тому же — империалист, неоднократно воспевший советское, красноармейское собирание земель, а ещё русофил, у него даже падающий снег — великорусский; в общем, на первый взгляд — сочинитель устаревший, ненужный, вредный… а на самом деле — он просто обязан вернуться — юный, новый, поющий, со своим рокочущим басом, бровеносец, красавец, умница, романтик, великий русский поэт.
Луговской однажды — крайне серьёзно — рассказал молодым ученикам о том, что видел русалку в Сибири.
Зелёные стихотворцы стали по-доброму посмеиваться.
Дядя Володя не на шутку рассердился: что это за поэты, чёрт побери, которые не верят в русалок?
Ему говорят: там же гидростанции повсюду.
Он говорит: и что? Пусть будут гидростанции и русалки.
Наверное, Луговской может вновь объявиться в этой стране — с гидростанциями и русалками. Там ему будут памятники стоять.
Высокие, в белых костюмах, памятники.
В 1956 году журнал «Звезда» одну за другой публикует поэмы из «Середины века», а книги, вышедшей в 1958 году, Луговской дождаться не успел, да и зачем — дело сделано.
8 мая 1957 года он сходил на могилу отца, вернулся тихий в свой переделкинский дом. 9 мая уехал в Ялту.
— Еду за синей весной. Буду работать… Обратно полечу… — сказал провожавшему его поэту Льву Озерову.
В Ялте держался обособленно, ни с кем не общался. Уходил с утра, соседи видели, как останавливалась машина, из неё медленно вылезал, трогая дорогу тростью, Луговской и, ни на кого не глядя, возвращался в свою комнату на первом этаже маленького старого флигеля — белый, как патриарх.
Он скончался 5 июня 1957 года — сердечный приступ. В Москву действительно вернулся на самолёте.
На юбилей революции не успел, но свой венок к юбилею Октября 1917-го сплёл.
25 мая начал последнюю поэму «Октябрь», 27 мая оборвал её на полувздохе, и так, возможно, даже лучше — кажется, что она дышит и ждёт продолжения.
Никто не знал, что это будет.
Мрак.
Иль свет, иль, может, светопреставленье,
Неслыханное счастье или гибель…
Итоги его жизни тоже не подведены окончательно. Сначала они были утешительны, потом перестали быть таковыми.
Луговской после войны однажды придумал праздник — День поэзии. Праздник попробовали отметить — и получилось хорошо. Позже День поэзии пошёл из страны в страну, по всему миру. Это всё Луговской, это он.