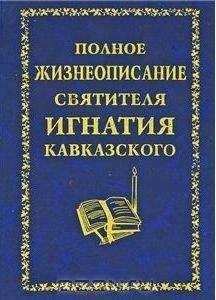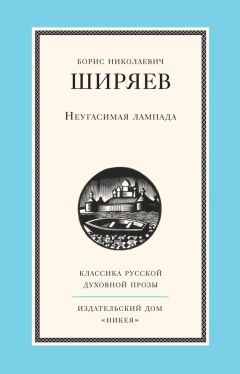«Я утешен уже мыслью, – говорил последний, – что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи…»
И «Господин Б» утверждал, что после такой пьесы «уважение не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности».
Что касается автора, после того, как толпа разошлась, он сделал для себя вывод из этих противоречивых оценок:
«Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в нем во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был – смех… Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно… Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного развлеченья и забавы людей, – но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно биющий родник его, который углубляет предмет… Насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа… Бодрей же в путь!.. И почем знать – может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, – в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..»
Когда Гоголь писал эти строки, он думал не только о «Ревизоре», но прежде всего о «Мертвых душах». Его мучила судьба книги. Ему казалось, что друзья проявляли невнимание, не передавая ему день за днем отзывы о публикации. Всякий, кто считал его великим писателем, были обязаны забыть свои собственные заботы и занятия, чтобы помогать ему. Как обычно, его интересовали не восхваления, а упреки. Поскольку только упреки могли показать ему «температуру» общества и соответственно помочь ему продумать направление своего будущего произведения.
Конечно же, было бы намного проще остаться в России, если ему так важно было знать реакцию соотечественников. Однако там удары наотмашь были бы для него слишком болезненны. Расстояние не ограждало его от оскорблений, но смягчало их. Он хотел их все знать, но предпочитал узнавать о них с некоторым опозданием, ослабленных долгой дорогой. Таким образом страдание, которое он настойчиво призывал, было терпимым, оставаясь благотворным. Он наседал на Жуковского, чей вердикт по поводу его книги заставлял себя ждать: «…если бы вы к ним прибавили хотя одну строчку о „Мертвых душах“, какое бы сильное добро принесли вы мне и сколько радости было бы в Гастейне! До сих пор я еще ничего не слышал, что такое мои „Мертвые души“ и какое производят впечатление, кроме кое-каких безотчетных похвал, которые, клянусь, никогда еще не были мне так досадны и несносны, как ныне. Грехов, указанья грехов желает и жаждет теперь душа моя! Если б вы знали, какой теперь праздник совершается внутри меня, когда открываю в себе порок, дотоле не примеченный мною. Лучшего подарка никто не может принесть мне… Вы одни можете мне сказать все, не останавливаясь какою-то внутреннею застенчивостью или боязнью в чем-нибудь оскорбить авторское самолюбие. Атакуйте, напротив того, самые чувствительнейшие нервы – это мне нужно слишком. Но уже вы прочли мою книгу, уже, может быть, многое изгладилось из вашей памяти, уже будут короче и легче ваши замечания. Нет нужды, пожертвуйте для меня временем, прочтите еще раз или хотя пробегите многие места».[359]
И Прокоповичу:
«Верно, ходят какие-нибудь толки о „Мертвых душах“. Ради дружбы нашей, доведи их до моего сведения, каковы бы они ни были и от кого бы ни были. Мне все они равно нужны. Ты не можешь себе представить, как они мне нужны. Недурно также означить, из чьих уст вышли они…»[360]
И Марии Балабиной:
«Известите меня обо мне: записывайте все, что когда-либо вам случится услышать обо мне… Просите также ваших братцев, – в ту же минуту, как только они услышат какое-нибудь суждение обо мне, справедливое или несправедливое, дельное или ничтожное, в ту же минуту его на лоскуточек бумажки, и этот лоскуточек вложите в ваше письмо».[361]
И Шевыреву:
«Ты пишешь в твоем письме, чтобы я, не глядя ни на какие критики, шел смело вперед. Но я могу идти смело вперед только тогда, когда взгляну на те критики. Критика придает мне крылья. После критики, всеобщего шума и разноголосья мне всегда ясней представляется мое творенье. Мне даже критики Булгарина приносят пользу».[362]
Да, он с покорностью принимал жестокие нападки со стороны Булгарина, Сенковского, Греча, которые упрекали его за неправильный стиль и ставили его ниже Поля де Кока. Но, признавая вместе с ними, что опубликованная книга содержала много недостатков, его вера в нравственную ценность своей книги оставалась непоколебимой. По мере того как до него доходили враждебные или льстивые статьи из Санкт-Петербурга и Москвы, он начинал лучше видеть необходимость расширить изначально задуманный сюжет. Он нарисовал ад русской жизни со всеми его ужасами. Теперь он покажет чистилище, заполненное чистыми и здравыми душами, наполненными благородными побуждениями. И в третьем томе, после того, как он станет абсолютно достойным писать на эту тему, он введет своих читателей в сверкающую безусловность рая. Интеллектуалы вряд ли смогут понять такой великий замысел, думал он. Мнение критиков и коллег его волновало меньше, чем мнение широкой публики, так как Бог вложил в его руку перо именно для того, чтобы спасти эту публику.
«Творения мои тем отличаются от других произведений, что в них все могут быть судьи, все читатели от одного до другого. Потому, что предметы взяты из жизни, обращающейся вокруг каждого».[363]
Гоголь очень часто говорил с Языковым о своем плане, и поэт, убежденный славянофил, соглашался, что наступило время отказаться от сатиры и что вторая часть «Мертвых душ» должна представить посредством нескольких положительных характеров идеального русского человека, русского человека будущего. Бог смотрит свысока за работой художника над этой грандиозной патриотической картиной, и придет момент, и Он придет на помощь неожиданным образом. Пока нужно заниматься своим покаянием, освобождая себя от земных пристрастий.