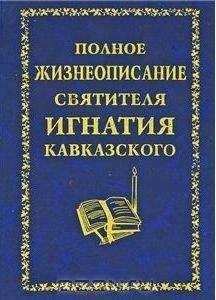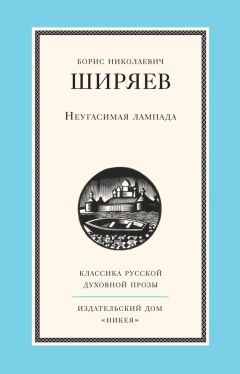«Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа», – писал Гоголь Аксакову.[364]
В поисках вдохновения он поехал в Мюнхен, но там было так жарко, так душно, что он сразу же вернулся в Гастейн к больному, который ждал его с нетерпением. Пришли осенние туманы и дожди. Пейзаж помрачнел, подступили зловещие горы, водолечебница опустела. Кроме того, Гоголь считал, что воды ему ничуть не помогли. Языков скучал. Зачем оставаться под этим низким и серым небом, когда солнце сияло над Италией?
Друзья отправились в путь. Крепостной лакей сопровождал Языкова. Лицо больного искажала гримаса страдания, когда на станциях ему приходилось передвигаться на костылях. Гоголь внимательно заботился и морально поддерживал своего друга как «истинный христианин». Сначала Венеция. Затем Рим. Прибыли туда 27 сентября 1842 года. Иванова предупредили письмом о приезде, и он смог снять все так же в доме 126 по улице Феличе квартиру на третьем этаже для Гоголя и на втором для Языкова. На четвертом этаже поселился другой русский проездом в Риме, Федор Васильевич Чижов, преподаватель-адъюнкт математических наук в Петербургском университете.
Стояла хорошая погода, воздух был теплым, улицы оживленными, по тротуару шли бок о бок монахи в коричневых ризах и дородные и крикливые итальянцы, под окнами ослики кричали свое «и-а»… Каждый вечер друзья собирались у Языкова, который принимал, развалившись в своем кресле, свесив ноги и втянув голову в плечи. Приходили художники Иванов и Иордан с карманами, полными жареных каштанов. Слуга приносил бутылку вина и стаканы. Но ни каштаны, ни вино не могли расшевелить Гоголя. Он пил, ел, словно погруженный в сон. Временами, когда его кто-то окликал, он выпрямлялся и пускался в высокопарные рассуждения о значении своего произведения. Или же менял тон и рассказывал сальный анекдот. Вульгарность используемых слов поражала его друзей, которые знали его больше как вдохновенного поборника искусства и морали.[365]
Затем он опять погружался в хмурую молчаливость. «Николай Васильевич, что это вы как экономны с нами на свою собственную особу? – говорил ему Иордан. – Мы вот все труженики, работаем целый день; идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться, – а вот вы ни слова не хотите промолвить. Неужели мы все должны только покупать вас в печати?» Гоголь ухмылялся, вздыхал, грыз каштаны и не отвечал.
«Признаться сказать, – писал Иордан, – на этих наших собраниях была ужаснейшая скука. Мы сходились, кажется, только потому, что так было уже раз заведено, да и ходить-то более было некуда…» Однажды они сидели так в тишине, подавленные, сонные и угрюмые вокруг бутылки с наполовину выпитым вином. «Молчание продолжалось едва ли с час времени. Гоголь первый прервал его. „Вот, – говорит, – с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе Господнем“. И после добавил: „Что, господа, не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?“»[366]
Пришла зима. Н. М. Языков дрожал от холода в своей комнате. Он был разочарован и обижался на Гоголя, что тот втянул его в такое долгое путешествие ради такого жалкого существования.
«…он хотел и обещался устроить меня как нельзя лучше; на деле вышло не то: он распоряжается крайне безалаберно, хлопочет и суетится бестолково, – писал Языков своим родителям. – Холодно мне и скучно и даже досадно. Почитает всякого итальянца священною особою, почему его и обманывают на каждом шагу». Очень скоро Языков уезжает обратно в Гастейн, но Гоголь, воспользовавшись этим, занял у него таки две тысячи рублей. Деньги очень быстро растаяли, и Гоголь снова оказался перед бездной. Печать «Мертвых душ» стоила намного больше, чем предполагалось ранее, а небольшая сумма, вырученная за продажу, пошла прежде всего на оплату долгов автора в Москве и Петербурге. Что касается «Полного собрания сочинений», Прокопович, полный добрых намерений, но неопытный в типографском деле, очень неумело взялся за их публикацию. Он сделал столько исправлений в тексте, но от этого оригинал потерял всю свою яркость и остроту, он купил бумагу по запредельной цене и проглядел, что типография обманула его в количестве выпущенного тиража. По тому, сколько средств было израсходовано на издание, представлялось очень сомнительным, чтобы затея вышла коммерчески выгодной. Возможно, что автору и его друзьям придется даже еще доплатить. Где достать деньги? Второй том «Мертвых душ» еще только в замыслах. Все богатство Гоголя состояло в одном чемодане, бумагах, «кое-какое белье, три галстуха». Он уже давно отказался от своей части собственности в Васильевке. Его мать, сестры бедствовали из года в год, надеялись, что он придет к ним на помощь. Единственным его прибежищем, как всегда, были друзья! Всевышний дал им шанс быть его друзьями, поэтому они должны освободить его от всех забот и обеспечить его существование на необходимый срок, чтобы он имел возможность создать очередной шедевр. В интересах своей души они должны заботиться о его бренном теле. Все, что они сделают для него, им воздастся сторицей в ином мире. Служить ему – значит служить Богу. Он объяснил это в длинном письме Шевыреву:
«Сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, – рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй… Я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения… Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг. Тим. (Аксаков). От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу, и не должен, и не властен думать о них… Верьте словам моим, и больше ничего… Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и другими, если только последуют, но распорядитесь так, чтобы я получал по шести тысяч в продолжение трех лет всякий год. Это самая строгая смета; я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние для того, чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно… Высылку денег разделить на два срока: первый – к 1 октября и другой – к 1 апреля, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради Бога, чтобы сроки были аккуратны: в чужой земле иногда слишком приходится трудно… Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства… Я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы, таким образом, приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога… Если же средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму…»[367]