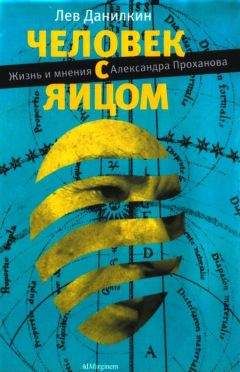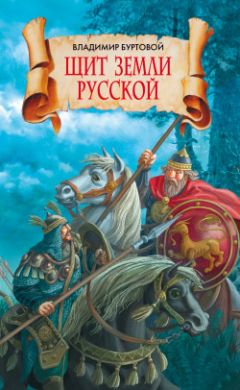Летом 1991-го, тоже после разговора с Язовым, его приглашает к себе в кабинет — тот самый, где сидел когда-то Троцкий и который потом будет описан в «Господине Гексогене», — главный финансист армии Бабичев. Надо полагать, Проханов убалтывает его, и тот подписывает платежку о передаче «Дню» «очень круглой суммы». За помещением Проханов пошел к генералу армии Варенникову в штаб сухопутных войск, на Фрунзенской, того не пришлось долго уламывать, и он подарил модуль, длинное солдатское помещение на Крутицком подворье, рядом с Московской гарнизонной гауптвахтой, значившееся на балансе Министерства обороны. Солдаты в течение недели сделали там ремонт, была закуплена новая мебель, двери кабинетов украсили медными табличками, в этом новом офисе даже прошло несколько редколлегий. Местоположение редакции тщательно скрывалось от посторонних и только в сентябре 1991-го, после путча, было обнаружено корреспондентом конкурирующей «Литературки». «Тайна, связанная с действительным адресом редакции „Дня“, хранилась столь строго, словно речь шла по крайней мере о военном сверхзасекречнном объекте, имеющем стратегическое значение», — иронизирует автор и дальше решает сообщить — ну и ну! — какие-то совсем уж неправдоподобные слухи: «Поговаривали, что ВПК снабдил редакцию мощным компьютером».
Взамен весь 91-й год газета предоставляет политическое убежище консервативным силовикам. Словно нарочно педалируя свою репутацию «соловья», он регулярно посещает соответствующее учреждение, где беседует с Язовым, Варенниковым, Баклановым, Родионовым, Чернавиным, открывая газетные отчеты о встречах с людьми, которые могли похвастаться репутацией вешателей, торжественными реляциями: «Мы собрались сегодня в вашем великолепном кабинете под хрустальными люстрами». Командующие округами, генералы Министерства обороны, Главком сухопутных войск признаются ему в самых теплых чувствах. «Это была очень тяжеловесно-советская компонента газеты, но было там и много игры, много такой уже начинавшейся фантасмагории».
Все эти «вешатели» — генералы и министры — были на самом деле всего лишь неповоротливыми, по прохановским меркам, истуканами, но в качестве исходного материала годились и они, так что он лишь додумывал за них то, чего они не могли сказать. Он представляет их как немых египетских исполинов, «жрецов советской цивилизации», разрабатывающих проекты новой континентально-космической цивилизации, основанной на сочетании духовных, почвенных и метафизических традиций Евразии с ультрасовременной техникой, космической стилистикой и с глобальной системой «новых коммуникаций». Вместе с Дугиным они изобретают за этих «жрецов» стратегию и идеологию метафизических «звездных войн». Якобы футуристы-почвенники из Генштаба, зная об американской модели Космоса и «звездных войн» (имеется в виду будущая космическая эра как торжество англосаксонской идеи во всей Вселенной), собирались противопоставить ей евразийскую — образ Русского Рая, спроецированный на всю Галактику.
Летом 1991-го газеты «День» и «Советская Россия» дают совместный залп по либеральной камарилье, публикуя документ «Слово к народу». Эта «вдохновенная проповедь», обращающаяся ко всем советским сословиям с требованием одуматься, прекратить развал страны и организовать движение сопротивления, подписана множеством имен: Бондарев, Распутин, Варенников, Зюганов, Стародубцев, Зыкина, Клыков; подлинным автором ее был Проханов. То был не первый его опыт создания подобных текстов: незадолго до «Слова» он был приглашен на закрытое партийное совещание, которое вел Медведев, идеолог Горбачева, а в президиуме сидел Яковлев. Когда пришла его очередь выступать, он, еле сдерживая истеричные нотки, сообщил коммунистам, что те ведут страну к катастрофе, грядут страшные времена, и ответственность за это будет лежать на них. Зал настороженно помалкивал, но в кулуарах к нему подходили партийные бонзы и пожимали ему руку.
Ельцин презрительно дезавуировал «Слово» как «плач Ярославны», и, боюсь, трудно было выразиться о нем точнее и остроумнее. «Слово» — образчик плохой риторики: сплав речей Сталина («братья и сестры»), какой-то зощенковской лингвистической архаики («государство, без которого нет нам бытия под солнцем», «все кто ни есть», «из коих»; чувствуется золотое перо главкома Варенникова) и фразеологических («становой хребет», «цепная реакция», «вбиваюттромбы»), эмоциональных («Россия — единственная, ненаглядная») и образных («дом наш уже горит с четырех углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью») прохановизмов. «Его правили, какие-то там куски вымарывали, каждый подписант вносил туда свою лепту, портил музыку текста, но тем не менее основной дух сохранился».
Болдин, бывший сотрудник «Правды» и будущий гэкачепист, дал автору понять, что одобрил это письмо и сделает все, чтобы оно прокатилось по парторганизациям страны. Вообще-то это было небывалым нарушением субординации — обратиться к народу через голову Генсека, но к тому моменту в партии уже было несколько центров власти — Горбачев, Ельцин, Лигачев, Яковлев — и активно разрабатывалась стратегия политического плюрализма. Кроме того, «Слово» не могло быть расценено как призыв к расколу, потому что инициатива исходила от самой партии, представленной Зюгановым, в тот момент сотрудником идеологического отдела ЦК, который и явился к Проханову с просьбой дать манифест.
В первые недели после публикации казалось, что единственным эффектом «Слова» было то, что все подписавшие документ добровольно украсили себя несмываемым клеймом мракобеса. Предполагал ли он, что «Слово» сдетонирует военным путчем? «Конечно. Я желал этого. Я полагал, это было неизбежно. Единственное спасение». Как именно текст спровоцировал танки войти в Москву? «Он, по-видимому, совпал с моментом, когда военно-политическая компонента будущего ГКЧП уже складывалась в мозгах у заговорщиков. Танки ведь не просто, сами по себе, вдруг входят. Это ответ на приглашение народа ввести их в страну, как это было в Чехии, Венгрии или Прибалтике, где прогрессивная часть венгерской или чешской общественности пригласила советские танки к себе в гости. Это было такое приглашение к танцу, идеологическое обоснование этих постулатов. Так всегда войны начинаются». Был ли он скорее рупором или инициатором путча? «Я думаю, что и то и другое. Энергия консервативного сопротивления переменам вскоре переместилась из кабинетов ЦК в публику, в патриотическую публику, в прессу, в которой я занимал не последнее место».
— Значит ли это, что восемнадцатого августа вы знали, что на следующий день в Москву войдут танки?