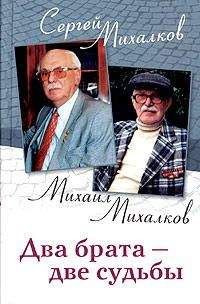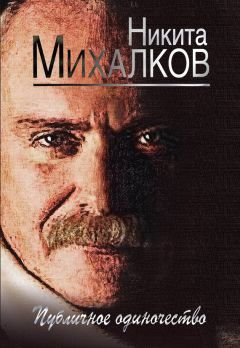— Выходит, что из Лейпцига вы просто сбежали?
— Зачем? От кого? Я отпросился у майора Холингера к отцу на несколько дней, сел в поезд и поехал в Шпремберг, но был снят с поезда и доставлен сюда.
— Откуда у вас «Браунинг»?
— Мне подарил его майор Холингер.
— За что?
— За хорошую работу в качестве переводчика.
— Но вы же не военнослужащий? — допытывался следователь.
— А при чем тут военнослужащий? Я два года был переводчиком у командира роты капитана Бёрша в танковой дивизии СС «Великая Германия», тоже не был аттестован как солдат, но всегда был при оружии, и это там поощрялось. Ходил и в военной форме, и в штатском.
Зацепившись за Бёрша, следователь стал скрупулезно допрашивать меня, пытаясь в чем-либо уличить, по здесь я был на сто процентов неуязвим, и все мои ответы, касающиеся 2-й штабной роты Бёрша, звучали настолько точно и правдиво, что следователь в конце концов поверил, что все было именно так, как я отвечал, — и поверил в мою добросовестную службу на благо немецкого рейха.
— Вы убедили меня, — сказал следователь. — Я верю в вашу искренность. И я за вас спокоен.
Потом в непринужденной беседе я узнал, что, оказывается, следователь родился в русской семье в Германии, куда его родители эмигрировали в 1919 году. И 2-й штабной ротой капитана Бёрша он заинтересовался только потому, что сам с начала войны служил переводчиком при штабе танковой дивизии СС «Великая Германия» и капитана Бёрша знал лично…
— Ну что же, — сказал следователь, как бы подводя итог своего допроса, — желаю здравствовать и честно служить великой Германии!
— Благодарю за доверие!
В эту минуту вошел еще какой-то штатский и отвлек внимание следователя, видимо, более серьезным вопросом, чем мой. Меня отправили обратно в камеру. Я был спокоен: Латвия, наверно, уже освобождена советскими войсками и проверить мои выдумки невозможно. К тому же сейчас в Германии сотни тысяч перемещенных из самых различных стран Европы, и разобраться, кто бежал из Германии, а кто — в Германию, было просто немыслимо.
На следующий день меня вызвали в тюремную канцелярию, вернули одежду, вернули «Браунинг» и отослали в военную комендатуру для зачисления в «фольксштурм» — народное ополчение.
И вот снова солдатская форма. «Все лучше, чем полосатая куртка», — думал я, подпоясываясь ремнем и пристраивая на голове пилотку. В кармане у меня солдатская книжка, на плече винтовка, в руке лопата и кирка, я иду в строю фольксштурмистов — рыть окопы на окраине городка.
Но рыть пришлось недолго, всего один день. Наутро я был снова вызван в комендатуру.
— Вы владеете двумя языками?
— Так точно, господин лейтенант.
— Мы направляем вас в Познань, в школу переводчиков. Лопату у нас есть кому держать, а иностранными языками владеют не многие, поэтому вот вам предписание. Отправляйтесь на вокзал и следуйте по указанному маршруту.
Я вышел из военной комендатуры, обрадованный тем, что мне снова предстоит дорога на восток.
В Познаньскую школу переводчиков я ехал не один, из комендатуры нас вышло двое: я и эстонец Айво Лемистэ. Это был хмурый и озлобленный тип, садист и профессиональный убийца. Родился он в 1918 году на острове Сааремаа в богатой семье. К 1940 году, к приходу советской власти, его семья уже жила на материке в поселке Вийнисту. Отца раскулачили, и одна из коров и часть земли были переданы земельной управой их соседу-бедняку. Айво прятался в лесу, избегая мобилизации.
После оккупации Эстонии фашистами Айво убил старика соседа и оставил рядом с окровавленным топором записку: «Вот тебе, гад, за корову и за землю!» Затем он вступил в военно-фашистскую организацию «Омакайца», будучи уже бандитом — «лесным братом». Потом вступил в карательный отряд, состоявший главным образом из националистов и уголовников. Как и его сообщники, он грабил, насиловал, пытал, вешал, убивал… Особенно их карательный отряд зверствовал во Пскове и его окрестностях. Наемные убийцы охотились за эстонскими коммунистами, убивали советских активистов, вырезали целые семьи, не щадя ни стариков, ни детей. При отступлении немцев из Эстонии Айво Лемистэ бежал в Германию…
— Последний поезд! Последний поезд!..
Вся платформа вокзала в Познани кишела вопившими, потерявшими головы немцами и немками, которые во что бы то пи стало стремились уехать на запад, домой, «нах фатерлянд».
Мы сошли с поезда и попали в самую гущу толпы, которую администрация и полиция пытались убедить, что этот поезд только что прибыл, а не отбывает. Это было безнадежно. Люди с коврами, саквояжами, чемоданами, сумками и тюками, с кошками и болонками на руках осаждали вагоны, из которых с проклятиями пробивались приехавшие.
Кто-то истерично вопил:
— Русские далеко? Русские далеко? Куда они прорвались?
— Говорят, они уже в Бромберге.
— Боже! — причитала какая-то дама. — У меня в Бромберге осталась столетняя бабушка.
Громкий, скрежещущий голос диктора объявил по радио: «Внимание! Внимание! Всем военнослужащим города Познань! Сообщение военного коменданта. Сегодня в пять часов утра, согласно приказу фюрера, за дезертирство из армии расстреляны: обер-лейтенант Макс Крумм, унтер-офицер Густав Мильде, ефрейтор Ганс Урле…» Железный голос называет еще около десятка званий и фамилий. Военные, прислушиваясь, замедляют шаг. Я вижу среди них беспокойно озирающихся по сторонам.
Голос диктора сменяется магнитофонной записью речи Геббельса, который дребезжащим тенорком пытается поддержать воинственный дух германской армии. Но сейчас эта речь — как мертвому припарки.
Познаньская школа переводчиков помещалась в двух мрачных многоэтажных корпусах, соединенных чугунными воротами, которые охранялись часовыми.
Пока часовой проверял наши документы, я смотрел, как во дворе школы вооруженные люди в солдатской форме занимались строевой подготовкой. Буквально через несколько суток этот прусский гусиный шаг сменится обыкновенным «драпом» — по-пластунски, на четвереньках, как угодно, вопреки уставам, правилам, достоинству и чести немецкого воинства!
Дежурный по школе проводил меня в правый корпус на второй этаж, в комнату-спальню, где на трехъярусных деревянных нарах с лестницами лежали подушки и одеяла. Посредине стоял стол со стульями. На столе — газеты и журналы. Комната-спальня была рассчитана на двенадцать человек. Мне досталась койка на верхнем ярусе.
Через полчаса я уже дрыгал ногами во дворе, отрабатывая гусиный шаг. Затем обед в общей столовой. А после обеда — занятия, и мне пришлось писать с группой студентов диктант на русском языке. Преподаватель — сухопарый немец — с акцентом диктовал отрывок из «Анны Карениной»: «Купаться было негде, весь берег реки был истоптан скотиной и открыт с дороги; даже гулять нельзя было ходить, потому что скотина входила в сад через сломанный забор, и был один страшный бык, который ревел и потому, должно быть, бодался…»