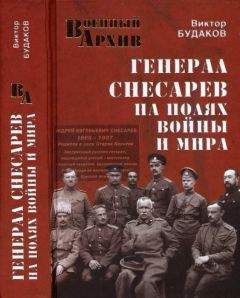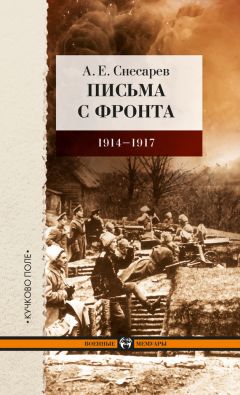Что поделать, выступать перед солдатами приходилось и Снесареву, поскольку чисто военные способы воздействия на войска Керенский и его компания поспешили отменить как реакционные, монархические, не соответствующие духу свобод. Вот и говори, ораторствуй во всю ивановскую, ежели не изобьют. Андрей Евгеньевич с улыбкой отмечает в дневнике, что в один день произнёс тринадцать речей, если считать по полчаса на речь, то получится ораторствование чуть не в треть суток… Разумеется, прекрасный оратор, лектор, собеседник, он умел говорить в любой обстановке, при любых слушателях и сотни раз беседовал с солдатами на отдыхе, перед атакой и после атаки, но теперь пробиться к солдатскому сердцу, смущённому облегчёнными речами временных комиссаров, стало труднее. Разумеется, он по-прежнему навещает окопы. Но вот едет мимо полков: Литовского, Волынского, Кексгольмского, гвардейских стрелковых — «всюду неорганизованные разрозненные группы, играют в карты… всё развалено, живёт врозь, ни указаний, ни связи, ни общего содружества… И успели развалить в какие-нибудь три с половиной месяца…»
Единственное утешение тех дней — поступившая 27 июня 1917 года телеграмма начальника Главного штаба генерал-лейтенанта А.П. Архангельского о награждении Снесарева орденом Святого Георгия третьей степени. К слову вспомнить, Алексей Петрович был добрым вестником о пожаловании Андрею Евгеньевичу ордена Святого Георгия четвёртой степени. Получить известие от уважаемого генерала было вдвойне приятно. Позже уважаем тот был и в среде эмиграции, где долее других возглавлял в 1938–1957 годах (после Врангеля, Кутепова, Миллера, Абрамова) Русский общевоинский союз — наиболее крупную и влиятельную организацию, объединявшую русские военные силы во многих странах мира.
Снесарев послал благодарственную телеграмму в 64-ю дивизию. Пришла и ему поздравительная телеграмма. В письме от 30 июня Снесарев записывает свой разговор о семье: о жене, о сыновьях Гене и Кирилке как будущем военном, и на вопрос собеседника «и даже в случае милиции?» отвечает: «Это дело не меняет: родину всегда должен кто-нибудь защищать или быть готовым к защите, и наш второй мальчик носит в груди подходящее для такого грозного и великого дела сердце».
В начале июля командиру дивизии строят землянку, которая по замыслу должна быть удобной, надёжной, просторной. Но строят так медленно, словно закончить её надо не ранее зимы. Потешут брёвна, поговорят, покурят, снова потешут, поговорят, покурят — эдак с полдня. Не сапёры, а копотухи. «А между тем вся Россия так работает, — сокрушается Снесарев, — мало и вяло».
В начале июля в письме отцу и матери жены делится возможностями своего будущего, безотрывного от Родины: «…Каковы мои планы на будущее? Сейчас трудно говорить о нём, когда туманен и неясен завтрашний день России… с началом мира нам придётся перестраивать армию заново сверху донизу или… перестать существовать как единое, цельное и сильное государство. В этом труде найдётся уголок и моим, какие они есть, дарованиям. А нет, найду и другую работу — ценз у меня большой. Вообще же, не знаю. Сейчас я работаю, как часовой на посту, хотя порою волны наводнения доходят чуть ли не до шеи. Но что делать? Поста мы не имеем право бросать и не бросим».
И словно бы продолжая начатую мысль о своём будущем, в письме жене размышляет: «Если бы меня выбрали почётным казаком Камышевской станицы, я бы не прочь был пойти к Каледину; Араканцев — это мой товарищ по Академии, и когда я… ездил в Михайловскую, я в Урюпинской заходил к Араканцеву, и мы много с ним тогда проговорили и провспоминали прошлое. Сверх того я убеждён, какие бы ни свершались в России пертурбации, на Дону было и останется спокойно. Мне приходило даже иногда на мысль сплавить вас всех на тихий Дон».
(Нет, не тихим выдастся Дон, отсюда — начало белой борьбы, а позже разделится он, как на уходящие друг от друга протоки-рукава, на враждебные друг другу казачьи силы, заполыхает Вёшенским восстанием, будет, словно штыками, насквозь проколот карательными красными войсками. Снесарев помнил донской край мирным, единым, богатым, может, именно такая детская и юношеская память не давала проявиться обычной его проницательности и увидеть огнём объятый день завтрашнего Дона.)
А фронтовые летние дни проходят в чересполосице дурного и совсем дурного, редко хорошего или, по крайней мере, грустного. Войны словно бы и нет — ни канонады, ни даже одиночных выстрелов, редки учения, ещё реже — атаки и контратаки. Действительно, довоевывание. Хотя Ставка шлёт директивы, штабы пишут, военачальники тасуются, как короли и валеты в карточной колоде.
Заехал проститься отстранённый от дивизии старый приятель, будущий участник Белого движения Скобельцын, отец будущего советского академика-физика, который откроет электронно-ядерные ливни, ядерный каскадный процесс и многое другое, благодаря чему станет знаменит. Снесарев в нескольких строках и с грустью, и с невольным юмором, и с радостью пишет о кадровых перетасовках: «Отстранил его Гутор, который сам сейчас отстранён. На место Гутора назначен Лавр Георгиевич, о котором в газетах пишут очень тепло и красиво как о народном герое. Я рад за этого хорошего человека и моего личного друга».
Поутру генерал участвовал в празднике мусульман своей дивизии, присутствовал на моленье, поздравлял, пил чай, чем несказанно обрадовал солдат, в основном с Волги и Кавказа, да и сам напитался от них радостью, видя, что у них не угас государственный инстинкт и что они «понимают пользу дисциплины и не утеряли веры в своего Бога».
У многих это чувство государственности и долга измялось в окопах, поколебалось царевым отречением, было оглушено комиссарствующей ратью, и как плоды этой митингующей рати, готовой ради обманной свободы иссечь на куски государство, Снесарев отмечает ещё в начале войны немыслимое: «Великорусы-солдаты (конечно, из мерзавцев) говорят: мы дойдём до Киева, а там пойдём к себе, а хохлы пусть себя обороняют сами, своё хохлацкое царство. Так наивно и не вовремя надумана самостийность Украины». И великорусы не чают добраться до далёкой своей сибирской или онежской деревни, да в ней и увидеть своё государство. И донские, и уральские, и иные казаки не прочь отделиться от большой Родины, слышал же он, как из его дивизии казаки вместе с верным ему Осипом в вечерний час тихо переговаривались, мол, бог с ней, с Россией, казакам лучше жить самим по себе, вот только не ошибиться бы, кого выбрать: атамана или… короля.
Армию словно дьявольский вихрь рассеял на воюющих, пленённых и дезертирствующих. Последние — самая зловонная короста армии. «Они, эти бродяги, дезертиры, грабители, насильники… трусливые и дрянные солдаты, отравляют всё наше существование; ещё нам-то в этом отношении сносно, так как мы всегда в сфере огня, а бездельники эти его не любят, но дальше от нас вглубь дезертиры собираются кучами и толпами, и там они ужас не только для населения, но и для штабов, транспортов, обозов. Когда мы их встречаем на нашем пути, то кричим им: “Куда тащишься, сволочь!” — и они, поджав хвост, виновато плетут нам какую-либо оправдательную историю, но на 20–25 вёрст от фронта они уже дерзки и невиновны, они рассказывают другие истории и ведут себя нагло. На 30–35 вёрст их наиболее густая волна, а дальше в глубь страны они всё больше и больше редеют, пока, наконец, не становятся отдельными единицами; такие единицы улавливаются ещё даже на 150 верстах от фронта. Что они делают, этого нельзя передать; даже мы иногда, проезжая ночью по деревням, слышим крики насилуемых женщин, но у нас эти насильники, как правило, обычно этим самым актом и кончают свою карьеру. Глубже — эта картина шире, ужаснее… невиданный и неузнаваемый лик армии, эта картина завершения трёхлетней войны — вот это видеть нестерпимо… и некуда скрыться от всего этого».