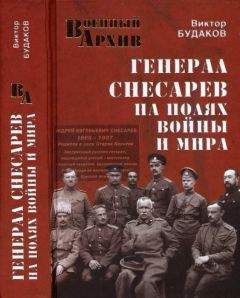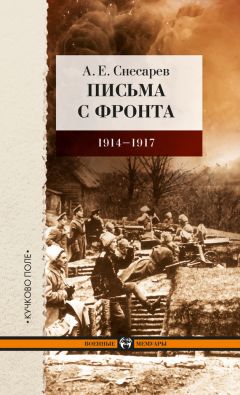Как-то вы там живёте, как твоё здоровье, моя лапушка? Я боюсь, что вам в тылу наши события на фронте кажутся более страшными, чем они бывают на самом деле. Хотя Куропаткина и называли мастером отступления, но это искусство не большое и довольно простое; обыкновенно ждут ночи и под покровом темноты, оставив немного людей, покидают позицию… Одно горе — усталость в ногах и ноющая боль в сердце».
(Андрей Евгеньевич, Ваше Превосходительство, господин и товарищ генерал! Вы пережили Великое отступление 1915 года, отступление 1917 года, а наша с вами Родина ещё переживёт страшное, с миллионными потерями убитых и пленённых, отступление первых лет Великой Отечественной войны, да ещё — революционно-криминальный погром в конце двадцатого столетия, когда очередная временщическая бригада-семья, руководимая якобы конституционным гарантом-прорабом, а на самом деле искусно подвигаемая западными политиками и собственными жадностью и безрассудностью, нанесёт такой предательский, заплечный удар по России, какой не наносили турки, шведы, французы, вместе взятые; или масоны Февраля и большевики Октября, вместе взятые.)
Снесаревские записи и строки лета 1917 года:
«…В Киеве непрерывные кражи и грабежи… Грушевский, инициатор украинского движения, уличается в связях с австрийцами и в получении от них денег, что-то вроде Ленина, субсидируемого германцами… Какова картинка “товарищеского” обрабатывания России! И я понимаю теперь, как создаётся в стране реакция: одного волнует и пугает необеспеченность жизни и имущества, помещика — жизнь на вулкане под угрозой крестьянского движения, меня — дикая организация почты… Слагаемые многочисленны, сложны и разнообразны, их историк и не разберёт, а скажет только своё слово о конечной сумме: в таком-то месяце в стране стала наблюдаться реакция, которая к такому-то моменту усилилась и тогда-то дала такие-то результаты.
…Начало Московского совещания, речь Керенского и т.п. Кроме пужания и властнической натуги в речи ничего нет. Я ждал от него большей решительности, а главное — большей смелости. Народник, который стращает насилием, — жалкий и смешной тип. Возвратить смертную казнь, ввести цензуру, да ещё усмотрительную, опираться на казаков… и всё ещё величать себя народником или социалистом, ведь это курам на смех. Так грубо не проваливалась в жизни ни одна политическая платформа…»
В «Тихом Доне» около трёх страниц отдано Московскому государственному совещанию. В перерыве меж заседаниями в кулуарах Большого театра, насколько можно уединяясь, разговаривают Корнилов и Каледин. Об армии, растлеваемой большевистскими и иными агитблудословами, о неумных внегосударственных шагах Временного правительства, о необходимости действовать решительно, на рубеже предельного, даже обнажая фронт, дабы германскими наступающими полками вразумить «временных».
На вопрос Верховного главнокомандующего о настроениях на Дону атаман Области войска Донского, недавний герой Луцкого прорыва, отвечает:
«— Нет у меня прежней веры в казака… И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс: казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних… Земля… вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех и других…
— Могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют?
— Не только приют, но и защиту. Казаки ведь исстари славятся гостеприимством и хлебосольством. — В первый раз за всё время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда.
Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с Декларацией двенадцати казачьих войск».
Дон, после большевистского переворота принимающий — не только военных Алексеева, Корнилова, Деникина, Лукомского, Маркова, но и общественно-цивильных, строго говоря, никчёмных, «переодетых», не знающих ни казачьего мира, ни России разнопартийных Милюкова, Савинкова, Завойко, Фёдорова, Керенского и легион им подобных, — Дон ещё может защитить их, но скоро он уже и себя не защитит, выгорая от красного пала.
Ничто не спасёт казаков — разорят их уклад, сожгут станицы, кого недостреляют — изгонят с родины.
«Я со своим домом всё стою на тех же местах; вчера у нас была служба в малюсенькой, но очень уютной церкви; солдат была масса, пел маленький хор… простые напевы… Вообще, ребята начинают поворачивать к Богу, догадываясь, что без него ровно ничего не выходит: ни победы, ни порядка, ни духовного покоя. По вечерам, когда тухнет заря, я вновь начинаю слышать “Отче наш”… поют роты, собравшиеся на поверку. А то ведь по первоначалу… молиться отказались: “Это старый, мол, режим…” Я приказал сказать, что все мы, и наши дети, и наши внуки давно будем гнить в земле, а этот режим — Слово Божие — будет так же раздаваться по церквям и полям, как он несётся теперь, как он несся сотни лет назад… не старый, а вечный режим. На полях приступают к уборке кукурузы… последнее слово жатвы.
Вчера с нами обедал один генерал и дивился нашей застольной дисциплине: офицеры раньше меня не сядут, курят по разрешении, раньше выходят — спрашивают моего разрешения и т.п. Он всё удивлялся: “А у нас (в другой дивизии) всякий сам по себе: курит, уходит…” Я мог только ответить: “Вы, генерал, прогрессивны, а мы — народ ретроградный”».
Непреходящие чувства великой беды и бессмысленности всего происходящего. Нет прежней воли, прежних желаний, прежних надежд. Тем не менее, разум и душу происходящее волнует — волнует положение родины и семьи.
Переживает за Корнилова, о «диктаторском» шаге которого — попытке навести порядок в столице — толкуют вкривь и вкось. Военные сходятся на том, что какая-то группа, зная его горячность, подтолкнула его на заведомо обречённый шаг, оставив одиноким перед судом; многие, и не только военные, полагают, что «Керенский был заодно с Корниловым, но дело не вышло, и первый предал второго… Среди офицерства ходит догадка, что оба… хотели просто-напросто избавиться от Петроградского Совета, но это не удалось».
Общественное мнение на корниловском «мятеже» сразу раздвоилось: либеральное — осудительное, патриотическое — сочувственное. «Теперь в России есть только две партии: партии развала и партия порядка. У партии развала — вождь Александр Керенский. Вождём же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась», — слова отечественного философа Ивана Ильина на одном из общественных московских совещаний афористично и точно объясняют суть происшедшего.