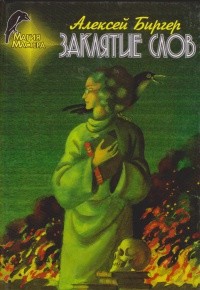быть понятны только тесному кругу – но при этом, за интимно шутливым флером, проступает и другое: разговоры о судьбе России, о судьбе поколения вполне серьезны, они искренне и глубоко волнуют всех друзей: дружеская шутка становится точным хирургическим срезом, по которому можно увидеть, чем живет и дышит все российское общество. Непритязательные события, лежащие в основе двух сценок, становятся теми «типическими обстоятельствами», через которые нам открывается широкая и полная картина действительности. И та поэзия обыденного, поэтические глубины обыденности, которую так замечательно раскрывал Языков в своих дружеских посланиях и элегиях на «мелочи жизни» (хвала халату, хвала присланному табаку и т. д.) здесь не только сохраняется, но и получает развитие в ином ракурсе, в ином повороте: через характеры, через приметы конкретной эпохи, через живописную жанровость.
Эти сценки настолько в духе «Повестей Белкина», которые Языкову когда-то пришлись так не по душе (брату Петру, 18 ноября 1831 года: «Как тебе понравились «Повести Белкина»? Мне так не очень: «Выстрел» и «Барышня-крестьянка» лучше прочих, а прочие не стоят и письма и тем паче печати.»), что возникает полное впечатление: Языков не только отдает дань уважения и памяти Пушкину, он кардинально переосмысливает многое. Он, как и Пушкин, начинает любить «фламандской школы пестрый сор», и этот пестрый сор ему удается теперь запечатлеть естественно и органично. Если в «Жар-птице» отсылки к приметам современной эпохи выглядели не очень натурально и навязчиво – «газеты», перечисление модных в 1820-30ых годах танцев и т. д. – то в этих сценках все четно становится по нужным местам. Художник окончательно овладел рисунком, стал мастером.
И не только это. Та поэтическая струя, которую вносит Языков в «бытовое и мелочное» – разумеем не одно лишь то, что «житейские анекдоты» написаны стихом, а не прозой, а в первую очередь поэтическую наполненность атмосферы, поэтическое восприятие жизни – в огромной степени перекликается с той поэтической струей, поэтической интонацией, которую вносил в свои произведения Гоголь. Вспомним хотя бы спор про существование призраков, где подтверждения реальности их существования переплетаются с юмором, заземляющим, принижающим, приземляющим тему – и одновременно, как раз за счет этой приниженности, делающим весь диалог, да и сами рассказы о призраках, более достоверным:
Скачков
… Скажи ты мне, мой милый,
Ты, Пронской, полно! Ты опять уныло
Задумался, скажи свой приговор:
Ведь ты читал ту книгу? Мир явлений
Из-за могилы, право, сущий вздор!
Дрянской
Однако же, друзья, и до сих пор
Не решено…
Пронской
Об этом много мнений;
Защитники таких духовидений
Зашли уже чрезмерно далеко,
Предположив решительно возможность…
Дрянской
А для ума почти равно легко
Доказывать неложность их и ложность,
Не испытав на деле.
Хворов
Так, ты прав,
Весьма легко, когда не испытав…
………….
Хворов
Скачков
У бабушки моей
Был человек, слуга ее, лакей,
Старик Мирон; слуга он был примерный,
Любил мести полы, и мел он их всегда
Так смирно, тихо мел, что господа,
Весьма остро, за то его прозвали
Мироном тихим. Умер он. Так что ж!
Теперь таких усердных не найдешь:
Ленивее и хуже люди стали!
В полночный час Мирон и мертвецом
Ходил мести полы в господский дом
И мел, как прежде. Многие видали,
И много раз, и дед мой видел сам,
И бабушка ходила со свечами
В гостиную и наблюдала там,
Как по полу пыль ехала рядами
К дверям сама, а щетки не видать!
Вот вам, друзья, извольте рассуждать!
Такое вполне нашло бы место у Гоголя – и в «Петербургских повестях», и в «Мертвых душах», и в «Ревизоре», а уж в маленьких драматических набросках – тем более.
Языков тоже начинает работать на «смешении жанров», «смешении родов в литературе». Сколько писалось и говорилось о том, что если «Евгений Онегин» – «роман в стихах» (не поэма, а роман в стихах – «дьявольская разница!», как отмечал сам Пушкин), то «Мертвые души» – «поэма» в прозе, и в этой перекличке, в этом встречном движении есть глубочайший смысл.
Языков тоже присоединяется к этой перекличке. И присоединяется – сразу после личного знакомства с Гоголем: будто, услышав наконец живой голос Гоголя, услышав живые интонации, с которыми Гоголь читает и собственные произведения, и стихи любимых поэтов – Пушкина и самого Языкова прежде всего – Языков улавливает то, что прежде ему уловить не давалось. Он, может, и чувствовал, что только через соединение прежде несоединимого он выйдет на новой поэтический уровень, но понимание было скорей умозрительным, не было ответа и ощущения, как это сделать. Встреча с Гоголем дарит ему это как.
При всем при том, вы согласитесь, наверное, что эти две жанровые сценки не относятся к высотам Языковского творчества. Да, Языков добился в них разговорной интонации, в чем-то и нового уровня естественности, но даже по процитированным кусочкам можно заметить, что эта разговорная интонация на данном, первом этапе ее освоения потребовала своих жертв, она порой приводит к некоторой неряшливости стиха, к потере насыщенности стиха глубиной и звуком, при всех несомненных удачах и ряде блестящих мест. Они, сценки эти – блестящее обещание, открытие новых перспектив, но на эти перспективы еще надо работать и работать. Окно распахнуто, впустили свежий воздух, Теперь надо надышаться этим воздухом так, чтобы легкие к нему привыкли, чтобы перестать его замечать, просто живя с ним.
И легкие привыкают очень быстро. «Сержант Сурмин» – вещь, которую многие считают лучшей из крупных вещей Языкова. Правда, есть еще «Липы»… Но к «Липам» мы чуть позже подойдем. Незатейливый рассказ про то, как князь Потемкин отучил подающего большие надежды сержанта Сурмина от игры в карты – от страсти, которая грозила погубить и его будущее, и его блестящие дарования и саму его жизнь – льется и естественно и гармонично, за счет самой гармонии стиха наполняя поэму тем глубоким смыслом, далеко выходящим за рамки сюжета, которым наполнены лучшие из подобных неприхотливых историй, от «Графа Нулина» до «Старосветских помещиков».
Был у меня приятель, мой сосед,
Старик почти семидесяти лет,
Старик, каких весьма немного ныне,
Здоровый; он давно