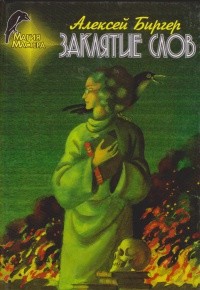Ломоносова, которые Пушкин так громил. Не Державин, а Ломоносов Языкову мешал, за спиной Ломоносова он вообще не видел почти никакой поэзии, кроме разве нескольких древних летописей и «Слова о полку Игореве», относящихся к временам уже небывалым. Лишь с началом собирательства русской народной поэзии многое начинает в нем меняться. Чтобы увидеть перемены, достаточно сравнить «Путешествие в Ревель», написанное в середине дерптских годов, и «Путешествие к Троице-Сергиевой Лавре» («М.В. Киреевской… …от благодарных членов Троице-Сергиевской экспедиции»), которому мы уделили достаточно внимания. И тут, и там – вроде бы, одинаково шутливый тон, и повествование о этапах пути строится схожим образом, но какая огромная разница! Перефразируя известнейший анекдот, можно сказать: «Хоть и очень похоже, да не одно и то же!» В «Путешествии в Ревель» весь юмор, все его интонации, снисходительная ирония и лихачество крепко закованы в оковы восемнадцатого века, со всеми его «правилами хорошего юмора», от «вольнолюбия» и разгула до жеманства; путешествие к Троице-Сергиевой Лавре – легко, свободно, окрылено, и все бытовые мелочи вписаны так естественно и органично, как это умел Языков, любую мелочь превращая в поэзию, постепенно открывающую высокое за обыденным.
И все равно, Языков тянется к веку нынешнему, просвещенному веку. Отсюда и его спор с Пушкиным о сказках – надо ли вводить в сказки современные реалии – и многое другое. В разговоре о вещих Олегах Пушкина и Языкова мы мимоходом помянули и вещего Олега Владимира Высоцкого. Даже на примере этой песни видно, насколько Высоцкий через головы двадцатого, девятнадцатого, восемнадцатого веков погружен в более ранние эпохи, сколько он из них черпает – не отказываясь при этом от всех достижений русского стихосложения. И дело не в формальностях, а в общей органике построения стиха, в общей структуре – архитектуре, если хотите. Каждый сам может проделать простейшую работу: взять сборники «Русская сатира XVII века» (хотя бы из «Литпамятников»), «Голубиная книга», «Русская историческая песня», «Русская притча», книги по русскому старинному театру, балаганному и скоморошьему (их много – советовал бы книги Н. Кузнецова, хоть и старые, но их можно найти), и поглядеть, сколько у Высоцкого структурных построений из более ранних веков, и семнадцатого, и шестнадцатого, и пятнадцатого, и вообще невесть какого, от скоморошьей распевки и скороговорки (вроде нынешнего рэпа) до распевов высокодуховных, то трагических, то умилительных, то напряженных, то убаюкивающих как летний солнечный луг над неспешной рекой. Да, дело не в одном скоморошьем балагурстве в «шуточных» песнях. Не менее явно старинные структуры иного, высокодраматичного рода проявляются и в «Привередливых конях», и в «Як-истребитель», и в «Иноходце», и в предсмертных стихах… А уж тот, кто возьмется всерьез исследовать эту до сих пор почему-то неисследованную тему, вообще может потерять голову от множества ярких и самых неожиданных открытий.
Высоцкий всплыл в разговоре как достаточно простой и очевидный пример того, чего может добиться поэт, осваивающий все поэтическое наследие своего языка.
Это освоение мы можем увидеть и у Пушкина, и у Лермонтова. Они легко и свободно заглядывают через голову восемнадцатого века в более ранние эпохи, черпая то, что им надо, и когда им надо.
А вот у Языкова на этом пути будто некий шлагбаум очень долго стоит – будто некое табу очень долго для него существует. Что это? Последствия влияния Рылеева, так «осовременившего» историю в своих «Думах», что Языков, при всей тяге к древней истории Руси, запнулся именно при общении с ее поэтическим языком? Более ранние последствия домашнего воспитания, когда Николка – мальчик «Вессель» – твердо усваивал, что хорошо в поэзии, а что плохо? Или же – все то же желание закрыться от исторической перспективы (в данном случае, от перспективы поэтического языка как носителя самой глубокой и правдивой информации), чтобы не видеть и не слышать, что пугачевский бунт может повториться вновь? Чтобы не вглядываться в те так-таки существующие, никуда не девшиеся, темные силы, в которые, пусть с трепетом, вглядывались другие, но в которые Языков, при его добродушии и при «семейной психологической травме» вглядеться никак не мог?
Кто знает… Во всяком случае, лишь в Ницце, во время необычайного языковского прорыва – и по количеству, и по качеству сделанного – мы видим, что Языков становится вхож во всю перспективу русского поэтического языка, что заградительные силовые поля восемнадцатого века перестали ему препятствовать. Сказались, конечно, и многие годы собирания и изучения народной поэзии, и знакомство с Гоголем, и тоска по родине, и окончательное осознание того, что болезнь неизлечима и смерть близка – много чего сказалось.
И дальше будут – несколько великих, но до сих пор неоцененных лет.
Что тут скажешь?
Только одно:
Состоялось!
И отвесить Николаю Михайловичу Языкову низкий поклон. При всем внешнем успехе, легкости, беззаботности и внешней малособытийности его жизни, он прошел через такие преграды, на которых поэт меньшего дарования и меньшей беззаветной готовности служить поэзии и трудиться ради нее постоянным трудом, душевным и духовным, всего прежде, просто бы сгорел.
Аспидная доска, на которой стихи пишу.